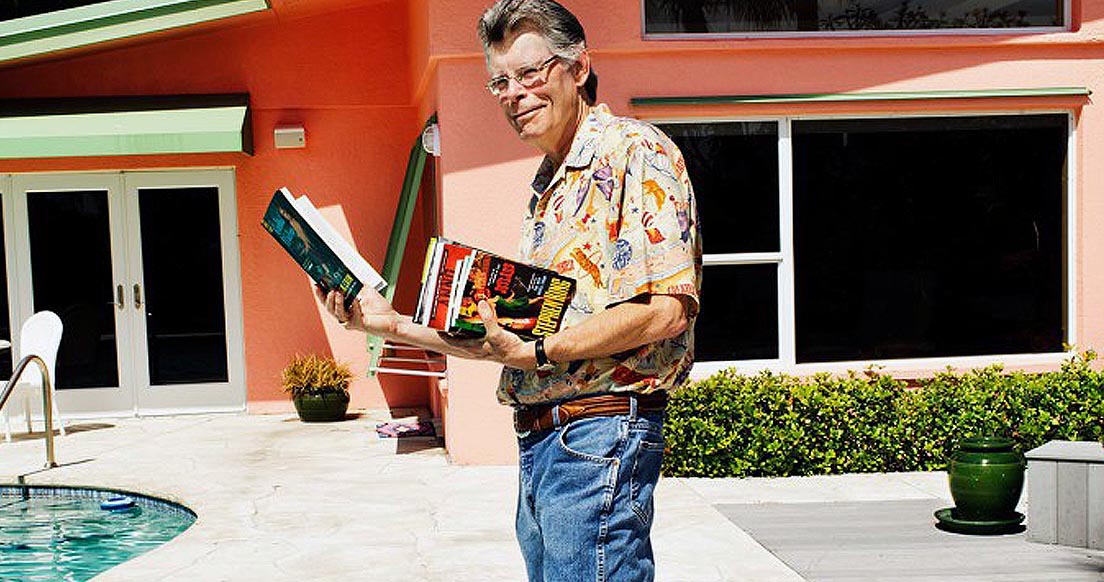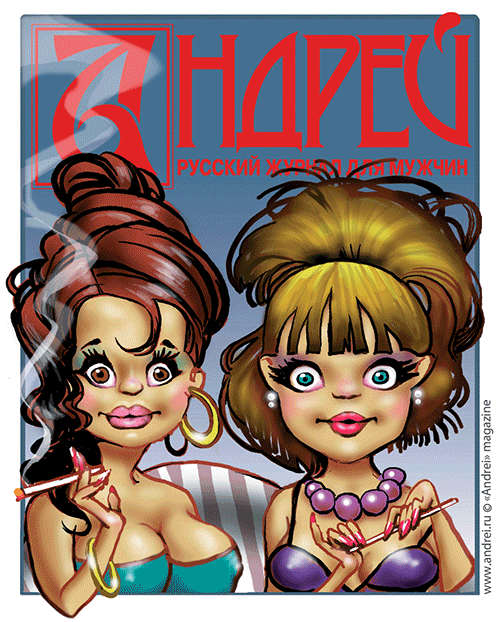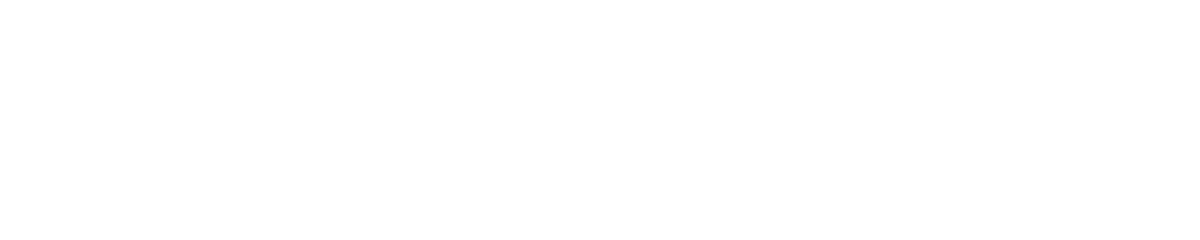Секционный зал номер четыре
Стивен Кинг | Перевод Виктора Вебера | Иллюстрация Игоря Гончарука

крип колеса прекращается вместе с движением. Материал с резиновым запахом, в который я упакован, потрескивает.
– Куда, они говорят, его? – чей-то голос. Пауза.
– В четвертый, я думаю. Да, в четвертый.
Мы вновь начинаем двигаться, но медленнее. Я слышу шуршание обуви по полу. Подошвы мягкие, возможно, это кроссовки. Обладатели голосов, они же владельцы кроссовок, вновь останавливают меня. Глухой стук, потом едва слышный свист. По моему разумению, открылась дверь с пневматическим доводчиком.
«Что здесь происходит?» Я кричу, но крик раздается только в моей голове. Губы не двигаются. Я их чувствую, и язык, лежащий на дне полости рта, как оглушенный крот, но не могу ими пошевелить.
Штуковина, на которой я лежу, катится вновь. Движущаяся кровать? Да. Каталка, другими словами. Мне уже приходилось иметь с ними дело, давным-давно, во время грёбаной азиатской авантюры Линдона Джонсона. До меня доходит, что я в больнице, что-то плохое случилось со мной, что-то вроде взрыва, который едва не отправил меня к праотцам двадцать три года тому назад, и меня будут оперировать. Логичная вроде бы мысль, да только у меня ничего не болит. И, если не считать одного пустячка: я до смерти напуган, в остальном со мной полный порядок. Опять же, если санитары везут меня в операционную, почему я ничего не вижу? Почему не могу говорить?

Третий голос: «Сюда, ребята».
Мою каталку разворачивают в новом направлении, а в голосе бьется вопрос: «В какую я угодил передрягу?»
«Разве это не зависит от того, кто ты?» – спрашиваю я себя, и тут выясняется, что последнее я как раз и знаю. Я – Говард Коттрелл. Биржевой брокер, которого коллеги прозвали Говардом Завоевателем.
Второй голос (над моей головой): «Вы сегодня просто красавица, док».
Четвертый голос (женский, очень холодный, практически ледяной): «Твоя оценка для меня очень важна, Расти. Не могли бы вы поторопиться. Я обещала няне, что вернусь к семи вечера. Она должна обедать с родителями».
Вернуться к семи, вернуться к семи. Еще вторая половина дня, может, и ранний вечер, но здесь темно, темень, что твоя шляпа, темно, как в заднице у сурка, темно, как в Персии в полночь, так что же происходит? Где я был? Что делал? Почему не сидел на телефонах?
– Потому что сегодня суббота, – шепчет внутренний голос. – Ты был… был…
БАЦ. Короткий резкий удар. Звук, который мне нравится. Звук, ради которого я в некотором смысле живу. Звук… чего? Удара клюшки для гольфа по мячу, который лежит на метке*. Я стою, наблюдая, как он улетает в синеву…
* Метка – горка песка, конусообразная деревянная или пластмассовая подставка, на которую кладут мяч для первого удара.
Меня хватают, за плечи и бедра, поднимают. От неожиданности я пытаюсь закричать. Ни звука не срывается с губ… ну, может, один, тоненький писк, гораздо тише скрипа колеса. Может, не срывался и он. Может, мне прислышалось.
Меня несут по воздуху в коконе тьмы… «Эй, только не бросайте, у меня больная спина!» – пытаюсь сказать я, но вновь ни губы, ни зубы не двигаются; язык лежит на дне полости рта, крот, возможно, не просто оглушенный, а мертвый, и тут у меня возникает ужасная мысль, подталкивающая к пучине паники: а если они положат меня не так и язык соскользнет назад и перекроет трахею? Я же не смогу дышать! Именно это имеется в виду, когда говорят, что «кто-то проглотил язык», не так ли?
“Во вторую половину этой субботы я хотел всего лишь пройти восемнадцать лунок, а вместо этого превратился в Спящую Красавицу с волосами на груди. И никак не могу отделаться от мысли: а что буду чувствовать, когда они ножницы вонзятся мне в живот?
Второй голос (Расти): «Этот вам понравится, док, он выглядит, как Майкл Болтон*?».
*Болтон Майкл (р.1953) – известный музыкант, композитор, исполнитель и автор баллад в стиле соул.
Женщина-врач: «Это кто?»
Третий голос, по звуку, молодой человек, недавний подросток: «Белый певец, который хочет быть черным. Не думаю, что это он».
Мужчины смеются, женский голос присоединяется к ним (после короткой паузы), а меня кладут, по ощущениям, на набитый ворсом или ватой стол, Расти отпускает какую-то новую шутку, у него их, похоже, неиссякаемый запас. Я ее не воспринимаю, потому что в этот самый момент меня охватывает безотчетный ужас. Я не смогу дышать, если язык перекроет мне трахею, эта мысль только что буравила мне мозг, но теперь ей на смену пришла другая: а что, если я уже не дышу?
Что, если умер? Что, если это и есть смерть?
Все сходится. До мельчайших подробностей. Темнота. Запах резины. Это сегодня я Говард Завоеватель, уникальный биржевых брокеров, звезда «Загородного муниципального клуба Дерри», завсегдатай, как говорят на многих полях для гольфа, разбросанных по всему миру, Девятнадцатой лунки*, но в 1971 году я состоял в санитарной команде в дельте Меконга, испуганный мальчишка, который иной раз просыпался с заплаканными глазами, потому что ему снилась оставшаяся дома собака, и я сразу понимаю, откуда мне известно эти ощущения, этот запах.
*Максимальное число лунок на поле для гольфа – восемнадцать. Девятнадцатая – бар в гольф-клубе.
Святой Боже, я в мешке для трупов.
Первый голос: “Распишитесь вот здесь, док. Нажимайте сильнее… чтобы пропечаталось на всех трех экземплярах».
Звук ручки, царапающей по бумаге. Я представляю себе, как обладатель первого голоса держит папку, в которой лежат три экземпляра сопроводительного листа.
О, дорогой Иисус, не дай мне умереть! Я пытаюсь закричать, но ни единого звука не слетает с моих губ.
Но я при этом дышу… не так ли? Нет, я не чувствую, что дышу, но легкие у меня вроде бы в порядке, они же не трепыхаются, не требуют воздуха, как случается, если надолго уходишь под воду, значит, я в норме, так?
– Только учти, если ты мертв, – шепчет внутренний голос, – воздуха они требовать не будут, правда? Не будут, потому что мертвым легким дышать не надо. Мертвые легкие могут… обходиться без него.
Расти: “А что вы делаете вечером в следующую субботу, док?”
Но, если я мертв, как могу чувствовать? Как могу ощущать запах мешка, в котором лежу? Как могу слышать голоса, вот и док сейчас говорит, что в следующую субботу она будет мыть шампунем свою собаку, звать ее Расти, какое совпадение, и все они смеются. Если я мертв, почему не вышел из тела или не окружен белым светом, о чем постоянно талдычат на ток-шоу Опры?
Резкий треск, словно что-то рвется, и мгновенно я в белом свете, он ослепляет, как солнечный луч ударивший в разрыв облаков в зимний день. Я стараюсь прищуриться, закрыть глаза, но ничего не выходит. Мои веки неподвижны, как две скалы.
Лицо наклоняется надо мной, блокируя часть света, который идет не от некой астральной плоскости, а от висящих под потолком флуоресцентных ламп. Лицо принадлежит молодому симпатичному мужчине лет двадцати пяти. Выглядит он, как пляжные мальчики в “Спасателях Малибу” или “Мелроуз Плейс”*. Разве что интеллект у него гораздо выше. Из-под небрежно надетой зеленой хирургической шапочки торчат черные волосы. Глаза у молодого человека темно-синие, какие сводят девушек с ума. На скулах россыпь веснушек.
*«Спасатели Малибу», «Мелроуз Плейс» – телесериалы, соответственно 1989-99 и 1995-97 гг.
– Это ж надо, – восклицает он. Третий голос. – И впрямь вылитый Майкл Болтон! Ну очень похож… – он наклоняется ниже. Одна из завязок на шее его зеленого халата щекочет мне лоб. – Безусловно. Эй, Майкл, спой что-нибудь.
“Помоги мне!” – вот единственное, что я пытаюсь спеть, но лишь смотрю в его темно-синие глаза немигающим взглядом мертвеца; я могу только гадать, мертвец ли я, неужели все так и происходит и каждый проходит через такое после того, как останавливается насос? Если я еще жив, почему он не видит, как мои зрачки сужаются, реагируя на яркий свет? Но я знаю ответ на этот вопрос… или думаю, что знаю. Они не сужаются. Вот почему свет флуоресцентных ламп столь болезненный.
Завязка щекочет мне лоб, как перышко.
“Помоги мне! – кричу я пляжному красавчику, который, возможно, интерн, а то и вообще студент. – Помоги мне, пожалуйста!”
Мои губы даже не дрожат.
Я кричу, но крик раздается только в моей голове. Губы не двигаются. Я их чувствую, и язык, лежащий на дне полости рта, как оглушенный крот, но не могу ими пошевелить.
Его лицо удаляется, завязка больше не щекочет меня, и весь этот белый свет струится в мои беспомощные глаза, которые не могут ни закрыться, ни отвернуться, проникает в мозг. Ощущение отвратительное, словно тебя насилуют. “Я ослепну, если придется долго смотреть в этот свет, – думаю я, – и это будет счастье”.
БАЦ! Опять удар клюшки для гольфа по мячу, но не столь четкий. Хорошего результата ждать не приходится. Мяч в воздухе… но отклоняется в сторону… отклоняется от … отклоняется к…
Черт! Я по уши в дерьме.
Другое лицо попадает в мое поле зрения. Белый халат вместо зеленого, над ним копна нечесаных рыжих волос. С ай-кью по первому взгляду просто беда.
Конечно же, это Расти. На лице широкая тупая улыбка, я называю ее школьной улыбкой, уместная для парня с татуировкой на здоровенном бицепсе: “СРЫВАЮ ЛИФЧИКИ”.
– Майкл! – восклицает Расти. – Парень, ты прекрасно выглядишь! Это такая честь! Спой для нас, большой мальчик! Порадуй своим сладеньким голоском!
Откуда-то сзади раздается голос дока, холодный, по всему чувствуется, что кривляние Расти даме надоело.
– Прекрати, Расти, – затем, обращаясь к кому-то еще. – Как все вышло, Майк?
Майк – это первый голос, напарник Расти. – Его нашли на четырнадцатой лунке «Дерри». Не на самом поле, в кустах. Если бы он играл один, если бы идущие следом игроки не увидели его ногу, торчащую из кустов, муравьи обглодали бы беднягу до костей.
В голове опять раздается этот звук: “БАЦ!” – только на этот раз его сопровождал другой, куда менее приятный: шуршание кустов, в которых я шебуршусь крюком клюшки. Должно быть, на четырнадцатой лунке. Все знают эти кусты.
Увитые плющом и…

Расти все всматривается в меня, с неподдельным интересом. Его интересует не смерть, а мое сходство с Майклом Болтоном. Да, конечно, я в курсе, не раз и не два пользовался этим в общении с клиентками.
В остальном никакого проку. А в сложившихся обстоятельствах… Боже…
– Кто подписал сопроводиловку? – спрашивает женщина-врач. – Казалян?
– Нет, – отвечает Майк, несколько мгновений смотрит на меня. Старше Расти лет на десять. Черные волосы, тронутые сединой. Очки. Как такое может быть? Почему никто из этих людей не видит, что я не труп?
– Среди тех четверых, что нашли его, был врач. Его подпись на первой странице… видите?
Шорох бумаг.
– Господи, Дженнингс. Я его знаю. Проводил Ною диспансеризацию, когда ковчег вынесло на склон Арарата.
По лицу Расти видно, что шутка ему непонятна, но он все равно ржет, как лошадь. Меня обдает запахом лука, а если я улавливаю запах лука, значит – дышу. Должен дышать, не правда ли? Если только…
Прежде чем я успеваю закончить мысль, Расти наклоняется ниже и во мне просыпается надежда. Он что-то заметил! Что-то заметил и собрался сделать мне искусственное дыхание. Рот в рот. Благослови тебя Господи, Расти! Господи, благослови Расти и его луковое дыхание!
Но глупая улыбка не меняется, и вместо того, чтобы приложить свои губы к моим, его рука скользит по моей челюсти. А теперь он зажимает ее между большим и остальными пальцами.
– Он живой! – кричит Расти. – Он живой и сейчас споет для клуба поклонников Майкла Болтона из секционного зала номер четыре.
Пальцы сжимаются сильнее, я даже чувствую боль, очень слабую, как при новокаиновой блокаде, начинают двигать челюсть вверх-вниз, зубы щелкают.
– Если она жесто-ока, она ничего не видит, – поет Расти отвратительным, напрочь лишенным мелодичности голосом. Мои зубы сжимаются и разжимаются, следуя грубым движениям его руки, мой язык поднимается и падает, как дохлая собака, качающаяся на волнах.
– Прекрати! – рявкает на него женщина-врач. Она шокирована до глубины души. Расти, похоже, это чувствует, но не прекращает своего занятия. Теперь его пальцы щипают мои щеки. Мои замороженные глаза по-прежнему смотрят верх.
– Повернись спиной к лучшему другу, если…
А вот и она, женщина в зеленом халате, завязки шапочки болтаются на спине, на лбу челка, лицо строгое, но миловидное- посмотреть есть на что. Хватает Расти одной рукой, ногти коротко подстрижены, и оттаскивает от меня.
– Эй! – негодует Расти. – Не трогайте меня!
– Тогда ты не трогай его, – в голосе слышна злость, двух мнений тут быть не может. – Ты достал меня своими идиотскими шуточками, Расти. Еще раз что-нибудь выкинешь, я напишу докладную.
– Давайте все успокоимся, – вмешивается пляжный красавчик, ассистент дока. В голосе тревога, словно он боится, что его шефиня и Расти прямо сейчас вцепятся друг другу в горло. – Просто поставим точку.
– Почему она цепляется ко мне? – Расти еще пытается возмущаться, но на самом деле жалобно скулит. Потом обращается к доку. – Почему вы такая злая? У вас месячные или что?
Док (с отвращением): «Уберите его отсюда».
Майк: «Пойдем, Расти. Нам надо расписаться в журнале.
Расти: «Да. И глотнуть свежего воздуха».
Я все слышу, как по радио.
По удаляющимся шагам понимаю, что они идут к двери. Расти, сильно обиженный, напоследок советует доку надевать на грудь табличку, чтобы все знали, в каком она настроении. Мягкие подошвы чуть шуршат по кафельным плиткам, но внезапно этот звук сменяется другим шуршанием, шуршанием кустов, которые я гну клюшкой в поисках моего чертова мяча. Где он, он же не мог закатиться далеко, Господи, как я ненавижу четырнадцатую, со всеми этими кустами, тут немудрено нарваться и на…
И в этот момент меня кто-то кусает, не правда ли? Да, я уверен, что так и было. В левую ногу, повыше высокого белого носка. Раскаленная игла боли, сначала в одной точке, потом боль растекается по телу…
…и небытие. Да того момента, как я очухиваюсь на каталке, в резиновом мешке, застегнутом на молнию, и слышу Майка («Куда, они говорят, его?») и Расти («В четвертый, я думаю. Да, в четвертый»).
Мне хочется думать, что меня укусила змея, но, может, потому, что я вспомнил о них, когда искал мяч. Возможно, это было насекомое, я же помню только боль, да и потом, какое это имеет значение? Беда в том, что я жив, а они об этом не подозревают. Разумеется, мне не повезло. Я знаю доктора Дженнингса, помнится, говорил с ним, когда обошел их четверку на одиннадцатой лунке. Очень милый человек, но рассеянный, старый. И этот старикан объявил меня мертвым. Потом Расти, с его пустыми зелеными глазами и дебильной улыбкой, объявил меня мертвым. Женщина-врач еще не взглянула на меня, как положено. Когда взглянет, возможно…
– Ненавижу этого кретина, – говорит она, как только дверь закрывается. Теперь нас трое, только женщина, разумеется, думает, что двое: я не в счет. – Почему мне всегда приходится иметь дело с кретинами, Питер?
– Не знаю, – отвечает мистер Мелроуз Плейс, – но Расти – особый случай, даже среди знаменитых кретинов. Ходячая атрофия мозга.
“«Я буду твоим рыцарем…», – поет Мик Джаггер, и я думаю, как бы ему танцевалось с тремя динамитными шашками, подвешенными к его тощей заднице.
Она смеется, что-то звякает. За звяканьем раздаются звуки, пугающие меня до смерти: кто-то перебирает стальные инструменты. Мужчина и женщина слева от меня, я их не вижу, но знаю, что они делают: готовятся к вскрытию. Готовятся разрезать меня. Собираются вырезать сердце Говарда Коттрелла и посмотреть, лопнула ли стенка или забился клапан.
«Моя нога! – кричу я в собственной голове. – Посмотрите на мою ногу! С ней проблемы – не с сердцем!
Возможно, мои глаза хоть чуть-чуть, но могут перемещаться. Теперь я вижу, на самом краю поля зрения, длинный тонкий цилиндр из нержавеющей стали. Он похож на державку дантиста, только заканчивается не гнездом под сверло, а пилой. Откуда-то из глубокого подвала памяти, где мозг запасает информацию, которая может потребоваться лишь в том случае, когда играешь в «Риск»* по телевизору, выплывает название. Пила Джигли. Используется для того, чтобы срезать верхнюю часть черепа. После того, как с тебя стянут лицо, на манер детской хэллоуинской маски, вместе с волосами.
*“Риск” – телевикторина, состоит в отгадывании вопроса к данному ответу и требует от участников высокой эрудиции. Идет с 1974 года. Российский аналог – “Своя игра”.
А уж потом они достанут твой мозг.
Продолжается легкое позвякивание, свидетельствующее о том, что они продолжают перебирать инструменты. Затем что-то громко лязгает. Так громко, что я бы подскочил, если б мог подскакивать.
– Хочешь сделать перикардиальный разрез? – спрашивает она.
– Ты позволишь мне сделать его? – осторожно спрашивает Пит.
– Да, думаю, что да, – голос женщины-доктора очень благожелательный, она намерена оказать услугу приятному ей человеку.
– Хорошо, – соглашается Питер. – Будешь мне ассистировать?
– Твой верный второй пилот, – она смеется. Смех перемещается щелчками. Я догадываюсь: ножницы режут воздух.
Теперь паника мечется в голове и рвется наружу, как стая скворцов, пойманная на чердаке. Вьетнам в далеком прошлом, но я видел с полдюжины вскрытий, которые проводились в полевых условиях, врачи называли их «палаточная аутопсия», и знаю, что собираются делать эти двое. У ножниц длинные, острые лезвия и толстые, широкие гнезда под пальцы. Чтобы воспользоваться ими, требуется немалая сила. Нижнее лезвие входит в живот, как в масло. Затем режет нервный узел в солнечном сплетении, мышцы и сухожилия расположенные выше. Добирается до грудины. Когда лезвия сходятся на этот раз, раздается скрежет, ребра разваливаются в стороны, как две половины бочонка, стянутые веревкой. А ножницы, похожими пользуются мясники супермаркетов при разделке птицы, все режут мышцы и кости, освобождая легкие, подбираясь к трахее, превращая Говарда Завоевателя в рождественский обед, который никто есть не будет.
Пронзительный вой… словно включили бормашину.

– Питер: «Можно я…»
Доктор, как заботливая мамаша: «Нет. Возьми вот эти». Щелк-щелк. Демонстрирует.
– Почему? – спрашивает он.
– Потому что я так хочу, – материнских ноток в голосе куда как меньше. – Когда будешь проводить вскрытия сам, Пити-бой, будешь делать, что тебе заблагорассудится.
Но в секционном зале Кэти Арлен первым делом берутся за перикардиальные ножницы.
Секционный зал. Вот мы со всем и определились. От страха хочется покрыться мурашками, но разумеется, не тут-то было, кожа остается гладкой.
– Помни, – теперь доктор Арлен читает лекцию, – любой дурак может научиться пользоваться доильным агрегатом… но наилучшие результаты дает ручная дойка, – в ее тоне слышится агрессивность. – Понятно?
– Понятно.
Они собираются сделать это. Я должен шевельнуться или вскрикнуть, а не то они действительно это сделают. Если кровь польется или ударит струей после того, как лезвие ножниц войдет в меня, они сообразят: что-то не так, но, скорее всего, будет уже поздно. Лезвия уже успеют сомкнуться, ребра будут лежать на моих предплечьях, а сердце испуганно пульсировать под флуоресцентными лампами в блестящей от крови околосердечной сумке…
Я сосредотачиваюсь на своей груди. Раздуваю ее… или пытаюсь… и что- то происходит.
Звук!
Я издаю звук!
Он в основном остался в закрытом рте, но я также могу услышать его и почувствовать в носу: низкое бубнение.
Сосредоточившись, собрав всю волю в кулак, я повторяю попытку, и на этот раз звук громче, выплескивается из ноздрей, как сигаретный дым: «Н-н- н-н…» Звук этот заставляет вспомнить телевизионную программу Альфреда Хичкока, которую я видел много лет тому назад. Джозефа Коттена парализовало в автомобильной аварии, и он в конце концов сумел дать им знать о том, что не умер, выжав из себя одну единственную слезу.
Как ничто другое, этот едва слышный комариный писк доказал мне, что я живой, что я – не просто душа, пребывающая в глиняном саркофаге моего тела.
Вновь сконцентрировавшись, я ощущаю, как воздух проходит в горло, заменяя тот, что я только что выдохнул, и снова я выдыхаю его, прилагая все силы, больше сил, чем тратил юношей, когда летом подрабатывал в «Дорожно-строительной компании», очень стараюсь, потому что сейчас я борюсь за жизнь, и они должны услышать меня, святой Боже, должны.
«Н-н-н-н-н…»
– Хочешь послушать музыку? – спрашивает женщина-врач. – У меня есть «Роллинг стоунз».
– У тебя?
– У меня. Я не такой «синий чулок», каким выгляжу, Питер.
– Я не хотел… – он, похоже, залился краской.
«Услышьте меня! – кричу я внутри головы, а мои замороженные глаза смотрят в снежно-белый свет. – Перестаньте трещать, вы же не сороки, услышьте меня!
Я уже чувствую, как воздух тонкой струйкой течет по горлу, и меня вдруг осеняет: эффект случившегося со мной слабеет, но мысли мои направлены на другое. Может, эффект и слабеет, да очень скоро отпадет сама возможность выздоровления. Вся мои силы брошены на то, чтобы они услышали меня, и на этот раз они обязательно услышат, я знаю.
– Если только ты не хочешь, чтобы я сбегала за си-ди Майкла Болтона в честь твоего первого перикардиального разреза. – говорит она.
– Пожалуйста, не надо! – восклицает он, и они смеются.
Звук вырывается из меня, и на этот раз он громче. Не такой громкий, как мне хотелось бы, но уже что-то. Они услышат, должны.
И тут, когда я начинаю выдавливать из носа звук, комната наполняется грохотом гитар, а голос Мика Джаггера, как мяч для пинг-понга, отлетает от стен: «Да, это всего лишь рок-н-ролл, но я его ЛЮ-Ю-Ю-Ю-Б-Л-Ю-Ю-Ю…»
– Приглуши звук! – кричит доктор очень громко, и среди всего этого шума мой носовой звук, отчаянную попытку бубнить носом, конечно же, никто не слышит, как шепот в кузнечном цехе.
Теперь ее лицо склоняется надо мной, и вновь я испытываю ужас, увидев, что глаза у нее закрыты прозрачным пластиковым щитком, а рот и нос – маской. Она оборачивается.
– Я раздену его для тебя, – говорит она Питеру и наклоняется еще ниже, со сверкающем скальпелем в руке, обтянутой перчаткой, наклоняется сквозь гитарный грохот «Роллинг стоунз».
Я отчаянно бубню, но толку нуль. Сам себя не слышу.
Скальпель замирает надо мной, потом начинает резать.
Я кричу в собственной голове, но боли нет, только моя водолазка распадается на две части, которые соскальзывают по бокам. Точно так же должна распасться и моя грудная клетка, после того, как Питер, не ведая, что творит, сделает свой первый перикардиальный разрез, на живом пациенте.
Меня поднимают. Моя голова откидывается назад, и я вижу Питера, надевающего прозрачный пластмассовый щиток. Он стоит за стальным столиком, на котором разложены инструменты. Почетное место на столике занимают большущие ножницы. Лишь на мгновение попадают они в мое поле зрения, лезвия блестят, как атлас. Потом меня вновь укладывают, но водолазки на мне уже нет. Теперь я по пояс голый. А в комнате холодно.
«Посмотрите на мою грудь! – кричу я ей. – Вы должны видеть, что она поднимается и опадает, пусть и воздух в нее поступает по минимуму! Вы же специалист, черт бы вас побрал!»
Вместо этого она смотрит на Питера, возвышает голос, чтобы перекричать музыку. («Мне нравится, нравится, нравится…» – поют «Стоунз», я думаю, что целую вечность буду слышать эти идиотские гнусавые вопли в стенах чистилища). – Твоя ставка? Боксерские трусы или плавки?
В ужасе и ярости я понимаю, о чем речь.
– Боксерские! – отзывается он. – Само собой. Достаточно взглянуть на этого парня!
«Говнюк! – пытаюсь закричать я. – Ты, должно быть, думаешь, что все, кто старше сорока, носят боксерские трусы! Ты должно быть думаешь, что, перевалив за сорок…»
Она расстегивает пуговичку на моих “бермудах”, потом молнию. В другой ситуации такие действия красивой женщины доставили бы мне несказанное удовольствие.
Она расстегивает пуговичку на моих «бермудах», потом молнию. В другой ситуации такие действия красивой женщины (строгой, но все равно красивой), доставили бы мне несказанное удовольствие. Сегодня, однако…
– Ты проиграл, Пити-бой, – говорит она. – Плавки. С тебя доллар.
– Отдам с получки, – он подходит. Его лицо появляется рядом с ее. Они смотрят на меня сквозь пластиковые щитки, как два инопланетянина на похищенного обитателя Земли. Я пытаюсь заставить их увидеть мои глаза, увидеть, что я смотрю на них, но эти дураки таращатся на мои трусы.
– О, да они еще и красные! – восклицает Пит. – Это круто!
– Хорошо хоть не розовые, – усмехается она. – Подними его, Питер, он весит с тонну. Не удивительно, что у него случился инфаркт. Пусть это будет тебе уроком.
«Я в отличной форме! – кричу я ей. – Возможно, здоровье у меня крепче, чем у тебя, сука!»
Сильные руки отрывают от стола мои бедра. Трещит позвоночник, от этого звука бухает сердце.
– Извини, приятель, – говорит Пит, и внезапно мне становится еще холоднее, потому что с меня стягивают шорты и красные трусы.
– Поднимем одну ножку, – воркует женщина-врач. – Поднимем вторую ножку. Снимем ботиночки, теперь носочки…
Она внезапно поворачивает голову к Питеру, и я опять надеюсь на лучшее.
– Зй, Пит.
-Что?
– Мужчины обычно надевают бермудские шорты и мокасины, когда играют в гольф?
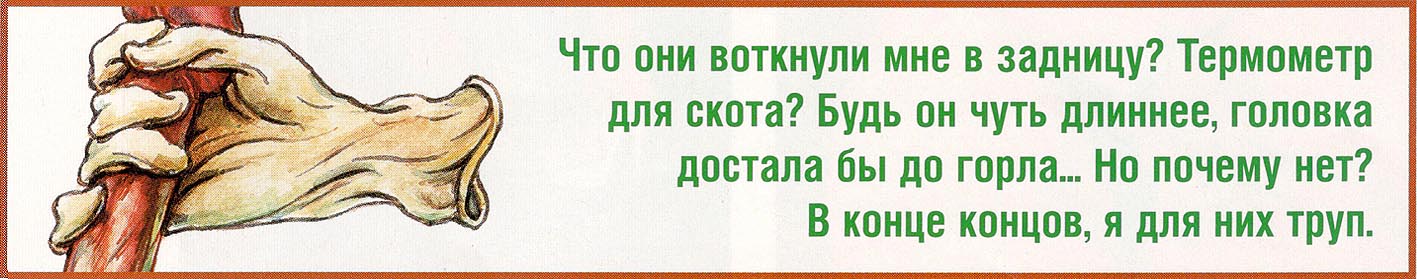
За ее спиной (там только источник шума, сам шум плотно окружает нас со всех сторон) «Роллинг стоунз» переходят к «Эмоциональному спасению». «Я буду твоим рыцарем…», – поет Мик Джаггер, и я думаю, как бы ему танцевалось с тремя динамитными шашками, подвешенными к его тощей заднице.
– Если ты хочешь знать мое мнение, то этот парень просто нарывался на неприятности, – продолжает она. – Я думала, они надевают специальную обувь, уродливую, специфическую, предназначенную исключительно для гольфа, с маленькими бугорками на подошвах.
– Да, но носить их не обязательно. Нет такого закона, – руки в перчатках Пита над моим лицом, он отгибает растопыренные пальцы назад. Костяшки хрустят, тальк сыпется на меня, как пудра. – Пока еще нет. Не то, что в боулинге. Если ты будешь играть в боулинг не в специальной обуви и тебе засекут, можно получить срок.
– Неужели?
-Да.
– Хочешь провести внешнее освидетельствование?
«Нет! – кричу я. – Нет, он же еще мальчишка, что вы ДЕЛАЕТЕ?»
Он смотрит на нее, словно и ему в голову пришла та же мысль.
– Это же… э… не совсем законно, не так ли, Кэти? Я хочу сказать…
Она оглядывается, слушая его, осматривает секционный зал, и я начинаю подозревать, что меня ждут дурные вести: при всей ее суровости, доктор Кэти Арлен, неровно дышит к темно-синим глазам Пити. Святой Боже, меня, парализованного, привезли с поля для гольфа в телесериал «Клиническая больница», на этой неделе многочисленной аудитории предлагается серия под названием «Любовь в секционном зале номер четыре».
“Я чувствую, как ее рука охватывает мой пенис, словно она собралась погонять мне шкурку, этакий безопасный секс с мертвыми.
– Слушай, – она переходит на заговорческий шепот, – тут никого нет, только ты и я.
– Запись…
– Еще не включена. А когда мы ее включим, я буду рядом, при каждом твоем шаге. В основном, буду. Я просто хочу разобраться с этими картами и предметными стеклами. Если, конечно, у тебя нет должной уверенности…
«Да! – крик так и рвется с моего застывшего лица. – Почувствуй неуверенность! СИЛЬНУЮ неуверенность! ОЧЕНЬ СИЛЬНУЮ неуверенность!
Но ему двадцать четыре года, и что он может сказать этой красивой, строгой женщине, которая стоит к нему вплотную, приглашает проявить себя? И речь, собственно, не о вскрытии. «Нет, мамочка, я боюсь»? А кроме того, у него чешутся руки. Я вижу желание в глазах за пластиковым щитком. Ему просто не терпится всадить в меня ножницы.
Он тянется за пределы моего поля зрения. Когда его рука возвращается, пальцы охватывают микрофон, который свисает с потолка на черном шнуре. Микрофон формой напоминает стальную слезинку. От одного его вида охвативший меня ужас усиливается стократ. Конечно же, они не разрежут меня, не так ли?
Пит еще не ветеран, но какой-то опыт у него есть; он обязательно увидит следы от укуса, уж не знаю, кто там укусил меня, пока я искал в кустах мяч, и тогда они заподозрят, что-то не так. Они должны заподозрить.
Однако, я по-прежнему вижу ножницы с их бессердечным атласным блеском, ножницы, похожие на те, какими режут кур… и поневоле задаюсь вопросом, а буду ли я еще жив, когда он вытащит сердце из моей груди и подержит секунду-другую, сочащееся кровью, над моими застывшими глазами, прежде чем бросить на чашку весов. Мне представляется, что я могу это увидеть. Действительно могу. Говорят же, что после остановки сердца мозг может нормально функционировать чуть ли не три минуты.
– Готов, доктор, – официальным тоном говорит Пит.
Где-то перематывается магнитофонная лента: пошла запись.
Процедура вскрытия началась.
– Давай опишем этого господина, – весело восклицает она, и меня ловко переворачивают. Моя правая рука описывает широкую дугу, ударяется о край стола, падает вниз, металлическая кромка впивается в бицепс. Мне больно, но я приветствую боль, радуюсь ей. Молюсь о том, чтобы кромка порвала кожу, молюсь о том, чтобы пошла кровь, чтобы произошло что-то такое, чего не случается с обычными трупами.
– Гопля! – продолжает доктор Арлен, поднимает мою руку и укладывает рядом с телом.
Теперь меня больше всего заботит нос. Он прижат к столу и мои легкие впервые посылают сигнал бедствия: жалобно трепыхаются. Мой рот закрыт, нос, прижатый к столу, закрыт частично (на какую часть, сказать не могу; я же не ощущаю собственного дыхания, практически не ощущаю). Что, если я задохнусь?
Потом что-то происходит, заставляющее забыть о носе. Огромный предмет, по ощущениям – стеклянную бейсбольную биту, загоняют мне в задний проход. Вновь пытаюсь кричать, и мне таки удается выжать из себя слабое бубнение.
– Измеряю температуру, – говорит Питер. – Таймер включен.
– Дельная мысль, – она подвигается. Освобождает ему место. Дозволяет потренироваться на этом трупе. Дозволяет потренироваться на мне. Музыка становится тише.
– Субъект – белый, возраст сорок четыре года, – говорит Пит в микрофон, говорит для вечности. – Его зовут Говард Рандольф Коттрелл, проживает по адресу: 1566 Лорел-крест-лайн, здесь, в Дерри.
Доктор Арлен, издалека: «Мэри Мид».
Пауза, Пит продолжает, с легким раздражением в голосе: «Доктор Арлен сообщает мне, что субъект в действительности живет в Мэри Мид, который отделился от Дерри в…
– Довольно истории, Пит.
Святой Боже, что они воткнули мне в задницу? Термометр для скота? Будь он чуть длиннее, думаю, головка достала бы до горла. И на смазке они сэкономили… но с другой стороны, почему нет? В конце концов, я для них труп.
Труп.
– Извините, доктор, – Пит держит паузу, вероятно вспоминает, на чем остановился. Вспомнил. – Это информация из сопроводительного листа, полученного от санитаров машины «скорой помощи». Первоначально она взята из водительского удостоверения, выданного штатом Мэн. Подписал сопроводительный лист доктор… э… Френк Дженнингс. Субъект найден мертвым на территории гольф-клуба «Дерри».
Теперь я надеюсь на свой нос. Надеюсь, что он начнет кровить «Пожалуйста, – прошу я его, – начни кровить. Не просто крови, пусть кровь льется рекой».
– Причиной смерти может быть инфаркт, – продолжает Питер. Чья-то легкая рука скользит по моей спине к расщелине между ягодиц. Я рассчитываю, что она вынет термометр. Напрасно. – Позвоночник, похоже, не поврежден. Видимых признаков травмы нет.
Видимых признаков. Видимых признаков! Что они несут?
Он поднимает мою голову, ощупывает подушечками пальцев скулы и отчаянно бубню: «Н-н-н-н-н», – зная, что он не сможет услышать меня, слишком уж громко бренчит гитара Кейта Ричардса, но надеюсь, что почувствует вибрацию воздуха в моих носовых каналах.
Не чувствует. Вместо этого поворачивает голову из стороны в сторону.
– Никаких видимых травм шеи, никакого трупного окоченения, – говорит он, и мне так хочется, чтобы он просто отпустил мою голову, позволил ей шмякнуться об стол, вот тогда нос обязательно закровит, если только я не мертв, но он осторожно укладывает ее, нос сплющивается, мне опять грозит удушье.
– Видимых повреждений нет ни на спине, ни на ягодицах, хотя на верхней задней части правого бедра старый шрам, выглядит, как давняя рана, возможно, от попадания шрапнели. Уродливый шрам.
Шрам уродливый, и от шрапнели. На нем война для меня закончилась. Мина угодила в зону расположения служб снабжения, двоих убило, одному, мне, повезло. Он еще уродливее спереди, в более чувствительном месте, но детородный орган функционирует… вернее, функционировал до этого дня. Четверть дюйма левее, и им пришлось снабжать меня ручным насосом и баллончиком углекислого газа для удовлетворения сексуальных потребностей.

Наконец, он вынимает термометр (О, Боже, какое облегчение), и на стене я вижу длинную тень, когда Пит поднимает термометр на уровень глаз.
– Девяносто четыре и две десятых, – объявляет он. – Многовато. Словно этот парень живой, Кэти… доктор Арлен.
– Вспомни, где они его нашли, – откликается она от дальней стены секционного зала. Одну песню «Роллинги» допели, следующую еще не начали, поэтому я четко слышу в его голосе лекторские интонации. – Поле для гольфа. Вторая половина летнего дня. Я бы не удивилась, если бы термометр показал девяносто восемь и шесть десятых*.
*94,2 градуса по Фаренгейту соответствуют 34,9 по Цельсию. 98,6 градусов по Фаренгейту соответствуют 36,6 по Цельсию, то есть нормальной температуре человеческого тела.
– Конечно, конечно, – голос обиженный, как у наказанного ребенка. – На пленке это будет звучать странно, не так ли? – Перевод: «Послушать пленку, так я круглый дурак?»
– Ничего странного, обычное практическое занятие. Собственно, так оно и есть.
– Хорошо, отлично. Поехали дальше.
Его обтянутые резиной пальцы раздвигают мне ягодицы, движутся вниз, к бедрам. Я бы напряг мышцы, будь у меня такая возможность.
«Левая нога, – я посылаю ему телепатический сигнал. – Левая нога, Пити-бой, левая голень, видишь?»
Он должен видеть, должен, потому что я чувствую, чувствую, это место пульсирует болью, как после укуса пчелы или укола, сделанного неумехой медсестрой, которая вместо вены впрыскивает содержимое шприца в мышцу.
– Известно, что играть в гольф в шортах – идея не из лучших, и субъект – наглядное тому подтверждение, – говорит он, и я желаю ему родиться слепым. Черт, может, он и родился слепым, ведет он себя так, будто глаз у него нет. – Я вижу множество укусов насекомых, царапины…
– Майк говорит, что его нашли в кустах, – подает голос Арлен. От нее столько шума. Такое ощущение, что она моет посуду в кафетерии, а не раскладывает предметные стекла и карты. – Предполагаю, у него случился инфаркт, когда он искал мяч.
– Ага…
– Продолжай, Питер, все у тебя идет хорошо.
Я нахожу, что с этим утверждением можно поспорить.
– Ладно.
Вновь прикосновения и нажатия. Нежные. Возможно, слишком нежные.
– Укусы москитов на левой голени выглядят воспаленными, – его прикосновения остаются нежными, но пульсирующая боль усиливается до такой степени, что я бы закричал, если б мог кричать, а не едва слышно бубнить.
И тут мне приходит в голову мысль о том, что моя жизнь зависит от времени записи «Роллинг стоунз», которую они слушают… я полагаю, это кассета, а не Си-Ди, на последнем одна песня сразу следует за другой. Если запись закончится до того, как они начнут резать меня… если я смогу пробубнить что-нибудь достаточно громко и один из них услышит меня прежде чем они перевернут кассету…
– Я, возможно, захочу взглянуть на эти укусы после общего вскрытия, – говорит она, – хотя если наше предположение насчет его сердца верно, нужды в этом не будет. Или… ты хочешь, чтобы я взглянула на них прямо сейчас? Они тебя тревожат?
– Нет, это обычные укусы москитов, – лопочет этот болван. – Здесь они крупные москиты. У него пять… семь… восемь… почти дюжина укусов только на левой ноге.
– Забыл, куда пошел.
– Куда, может, и не забыл, а вот захватить «дигиталин» точно не удосужился, – отвечает он и они на пару смеются отменной для секционного зала шутке.
На этот раз он переворачивает меня сам, должны быть, вне себя от счастья, поскольку может продемонстрировать силу накачанных в тренажерном зале мышц, пряча от посторонних глаз укусы змеи в обрамлении москитных укусов. Я вновь, не мигая, смотрю во флуоресцентные лампы. Пит отступает на шаг, исчезает из моего поля зрения. Стол начинает наклоняться, и я знаю, почему. Когда они меня вскроют, жидкость потечет вниз, в специальные сборники у изножия. Чтобы центральной лаборатории штата в Огасте* было, что анализировать, если при вскрытии возникнут какие-то вопросы.
*Огаста – столица (с 1931 г.) штата Мэн.
Я концентрирую волю и усилия на том, чтобы закрыть глаза, пока он смотрит на мое лицо, но не могу даже дернуть веками. Во вторую половину этой субботы я хотел всего лишь пройти восемнадцать лунок, а вместо этого превратился в Спящую Красавицу с волосами на груди. И никак не могу отделаться от мысли: а что буду чувствовать, когда они ножницы вонзятся мне в живот?
Пит держит в одной руке какой-то листок. Сверяется с ним, откладывает в сторону, начинает говорить в микрофон. Голос его звучит увереннее. Он только что поставил самый неправильный диагноз в своей жизни, но не знает об этом, а потому нисколько не сомневается в том, что все идет, как положено.
Он оттягивает мои губы, смотрит на губы, как человек, подумывающий о покупке лошади, затем тянет вниз мою челюсть.
– Хороший цвет, – комментирует он, – и никакого петехиального кровоизлияния на щеках, – очередная песня заканчивается и я слышу щелчок: он наступает на педаль, останавливающую запись. – Можно подумать, что этот парень все еще жив.
Я изо всех сил бубню, но в этот самый момент доктор Арлен что-то роняет, по звуку, подкладное судно.
– Как бы он этого хотел, – смеется она. Он ей вторит и в этот момент я желаю им заболеть раком, неоперабельным и вызывающим длительные страдания.
Он наклоняется над моим телом, ощупывает грудь («Никаких синяков, припухлостей, других внешних признаков инфаркта», – оглашает он результаты – большой сюрприз), потом пальпирует живот.
Я рыгаю.
Он смотрит на меня, глаза округляются, челюсть чуть отвисает, и я вновь отчаянно пытаюсь бубнить, зная, что он не услышит меня: уже пошла песня «Начни со мной сначала». Но очень хочется думать, что бубнение вкупе с рыганием прочистят ему мозги, убедят, что вскрывать он собирается отнюдь не труп.
– Извиняюсь за тебя, Гоуви, – доктор Арлен, эта сука, подает голос, стоя за моей головой, и хихикает. – Будь осторожен, Пит, у посмертной отрыжки отвратительный запах.
Он театральным жестом разгоняет воздух перед собой, потом возвращается к прерванному занятию. Практически не касается паха, походя отмечая шрам на правой ноге, который с задней стороны бедра переходит на переднюю.
«Не заметил важную подробность, – думаю я, – возможно, потому, что она находится выше, чем ты смотришь. Невелика беда, мой дорогой Пляжный Мальчик, но ты также упустил из виду, что Я ЖИВОЙ, а вот это уже катастрофа!»
Он продолжает наговаривать в микрофон, по голосу чувствуется, что он осваивается в новой для себя обстановке. Если не считать одного пустяка: первый труп, который он собирается вскрывать, живой человек, у Пита отлично все получается.
Наконец, он говорит: «Полагаю, я готов перейти к следующему этапу», – в голосе, правда, проскальзывает сомнение.
Она подходит, мельком смотрит на меня, потом сжимает плечо Питу.
– Хорошо. Действуй.
Теперь я стараюсь высунуть язык. Так вот по-детски продемонстрировать свое отношение к красавчику. Этого вполне хватило бы… мне кажется, я чувствую язык и губы, такое ощущение возникает, когда начинает отходить новокаиновая блокада. Вроде бы и язык дернулся. Нет, наверное, я принимаю желаемое за действ…
Да! Да! Дернулся, но только раз, вторая попытка оканчивается полным провалом.
Когда Пит берется за ножницы, «Роллинг стоунз» переходят к следующей песне, «Подхвати огонь».
«Поднесите зеркало к моему носу! – кричу я им. – И увидите, как оно затуманится! Неужели такая мысль не приходит вам в голову?»
Чик, чик, чик, щелкают ножницы.
Пит поворачивает ножницы так, что свет отражается от их блестящих лезвий, и впервые я уверен, на все сто процентов уверен, что это безумие будет доведено до логического конца. Режиссер не собирается останавливать съемку. Рефери не собирается останавливать поединок в десятом раунде. Мы не собираемся брать паузу, чтобы узнать мнение наших спонсоров. Пити-бой намерен вонзить ножницы в мой живот, пока я, беспомощный, лежу на этом столе, а потом вскрыть меня как бандероль.
Он вопросительно смотрит на доктора Арлен.
«Нет! – воплю я, мой голос бьется о темные стенки моего черепа, но не выплескивается изо рта. – Нет, пожалуйста, нет!
Она кивает.
– Давай. Все у тебя получится.
– Э… ты не хочешь выключить музыку?
«Да! Да, выключи ее!»
– Она тебе мешает?
«Да! Она ему мешает! Она до предела затуманила ему мозги! Он даже решил, что его пациент мертв!»
– Ну…
– Конечно, – отвечает она и исчезает из моего поля зрения. Мгновением позже Мик и Кейт наконец-то замолкают. Я пытаюсь бубнить, но к своему ужасу обнаруживаю: не получается. Я слишком напуган. Страх сковал мои голосовые связки. Я могу только наблюдать, как она присоединяется к нему, вдвоем они смотрят на меня сверху вниз, как несущие гроб – в открытую могилу.
– Спасибо, – благодарит он. Потом набирает полную грудь воздуха и поднимает ножницы. – Провожу перикардиальный разрез.
Медленно опускает ножницы. Я их вижу… вижу… потом они скрываются за пределами моего поля зрения. А чуть позже я чувствую, как холодная сталь прижимается к верхней части моего живота.
Он с сомнением смотрит на врача.
-Ты уверена, что…
– Хочешь ты учиться проводить вскрытия или нет, Питер? – в голосе звучат резкие нотки.
-Ты знаешь, что хочу, но…
– Тогда режь.
Он кивает, плотно сжимает губы. Я бы закрыл глаза, если б смог, но, разумеется, не могу; я только готовлюсь к боли, которую почувствую через секунду или две, говорю себе: «Крепись!»
– Режу, – он чуть наклоняется вперед.
– Одну секунду! – кричит она.
Давление чуть ниже солнечного сплетения ослабевает. Он поворачивается к ней, на лице удивление, легкое раздражение, а может, и облегчение, потому что удалось оттянуть критический момент.
Я чувствую, как ее рука охватывает мой пенис, словно она собралась погонять мне шкурку, этакий безопасный секс с мертвыми.
-Ты упустил вот это, Питер.
Он наклоняется, смотрит на ее находку – шрам чуть ли не в самом паху, на верхней части правого бедра, вывороченная, блестящая, без единой поры кожа.
Ее рука все еще держит мой член, держит, чтобы он не заслонял шрам, только ради этого. Точно также она держала бы и диванную подушку, чтобы показать кому-то сокровище, которое ей удалось там обнаружить: монетки, бумажник, придушенную кошкой мышку… но что-то происходит.
Дорогой Иисус, что-то происходит!
– И посмотри, – ее пальцы гладят правую часть мошонки, движутся дальше, на бедро. – Посмотри на эти нитевидные шрамы. Его яички, должно быть, тогда раздулись до размеров грейпфрутов.
– Ему повезло, что он не потерял одно, а то и два сразу.
– Можешь поспорить на… можешь поспорить, знаешь на что, – она смеется, и в смехе определенно слышатся сексуальные нотки. Пальцы то сжимаются, то расслабляются, рука движется, с тем, чтобы шрам оставался на виду. Движения спонтанные, но она могла бы заработать двадцать или тридцать баксов, если бы проделывала все это сознательно… при других обстоятельствах, разумеется. – Я думаю, это боевое ранение. Дай-ка мне увеличительное стекло, Пит.
– Но не следует ли мне…
– Я отниму у тебя лишь несколько секунд, – она полностью поглощена моим шрамом. – Он все равно никуда не уйдет, – ее рука по-прежнему охватывает мой пенис, сжимает, отпускает, и я чувствую, что-то продолжает происходить, но, возможно, ошибаюсь.
Должно быть, ошибаюсь, иначе он бы это увидел, она бы это почувствовала…
Она склоняется так низко, что я вижу только ее спину, обтянутую зеленым халатом, завязки шапочки, напоминающие тоненькие косички. Теперь, о-го- го, тем самым местом я ощущаю ее дыхание.
– Обрати внимание, как расходятся эти лучевидные шрамы. Это осколочное ранение, которое он получил лет десять тому назад. Мы можем проверить его послужной…
Распахивается дверь. Пит от неожиданности вскрикивает. Доктор Арлен – нет, но ее рука непроизвольно сжимается, сдвигается, и выглядит все так, будто разбитная медсестра ублажает прикованного к постели пациента.
– Не вскрывайте его! – голос такой пронзительный, такой испуганный, что я едва узнаю Расти. – Не вскрывайте его! В сумке с клюшками змея и она укусила Майка!
Они поворачиваются к нему, глаза широко раскрыты, челюсти отвисли. Она по-прежнему сжимает мой конец, не осознает этого, уже какое-то время не осознает, как Пити-бой не осознает, что одной рукой держится за сердце. И выглядит он так, словно именно у него отказал главный насос.
– Что… что ты… – лепечет Пит.
– Уложила его на землю, – Расти трещит, как пулемет. – Полагаю, он оклемается, но сейчас едва может говорить! Маленькая коричневая змейка, я таких не видел никогда в жизни, она уползла под разгрузочную платформу, и сейчас лежит там, но это не важно! Я думаю, она укусила и парня, которого мы привезли. Я думаю… боже мой, док, что это вы делаете? Возвращаете его к жизни по частям?

Она поворачивает голову ко мне, не понимая, о чем он… пока до нее не доходит, что ее ладонь обжимает стоящий столбом пенис. А когда она начинает кричать… с криком выхватывает ножницы из повисшей плетью, затянутой в резиновую перчатку руки Пита… я вновь думаю о старом телефильме Альфреда Хичкока.
«Бедный старый Джозеф Коттен, – думаю я. – Он мог только плакать”.
![]()
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Я думаю, что на каком-то этапе своего творческого пути каждый автор «ужастиков» должен коснуться погребения заживо, потому что люди этого действительно боятся.
Когда мне было лет семь, самым страшным телесериалом по праву считался «Альфред Хичкок представляет», а самой страшной серией стала та, где Джозеф Коттен сыграл человека, получившего травмы в автомобильной аварии. Травмы такие тяжелые, что врачи сочли его мертвым. Они даже не могли прощупать пульс. И уже собрались провести посмертное вскрытие, хотя он был жив и заходился внутренним криком, короче, та серия, где он выжал из себя единственную слезу, чтобы дать им знать, что жив.
Это очень трогательный момент, но трогательность – не из моего репертуара. Поэтому, когда я задумался над рассказом на эту тему, мне в голову пришла мысль о другом (можем мы сказать, более современном?) методе коммуникации.
Вы прочитали о нем выше.