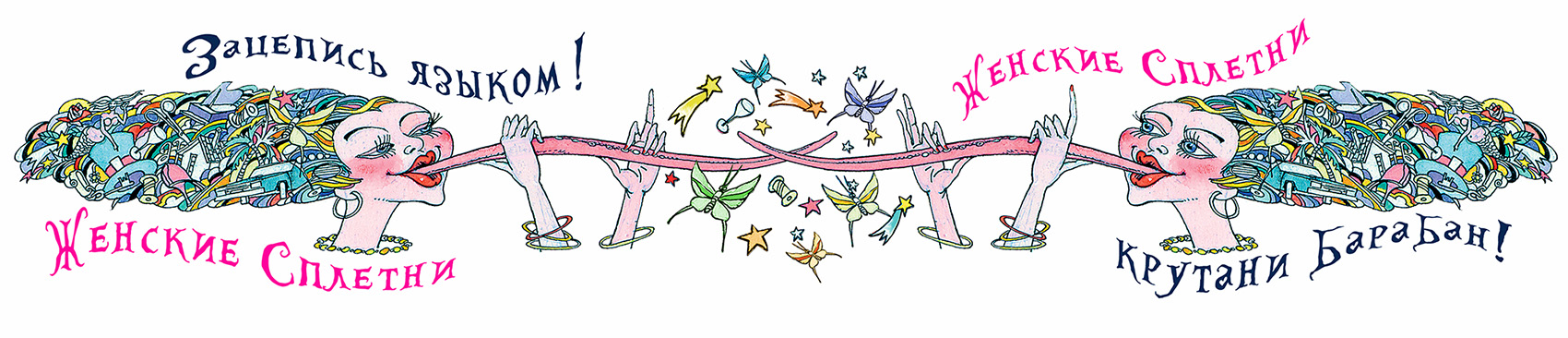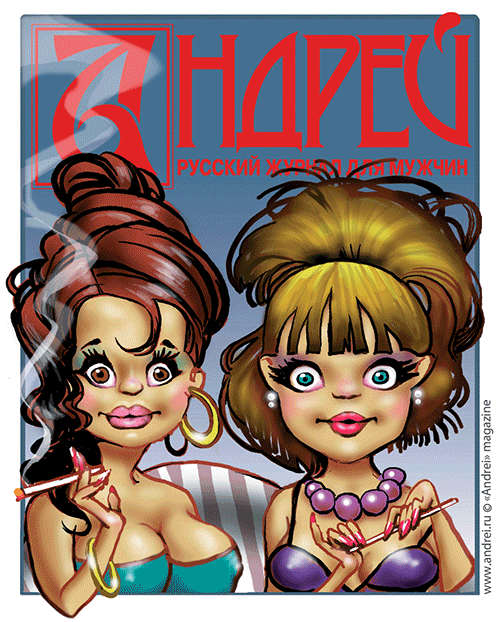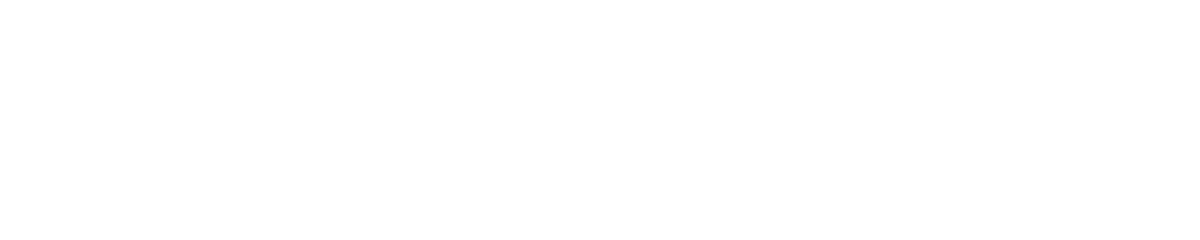Мещерские вампирши
Граф Григорий Орлякин-Орлищев | Иллюстрация Алексея Остроменцкого
Рукопись этой повести обнаружила и подготовила к печати Ирина Сумарокова, снабдив публикацию литературоведческим послесловием. Орфография оригинала сохранена.
 осле ужина мужчины, как водится, перешли в диванную. Там ждали их отменные напитки и ящик сигар.
осле ужина мужчины, как водится, перешли в диванную. Там ждали их отменные напитки и ящик сигар.
– Как показалась Вам давешняя Джильда, граф? – проговорил молодой человек в чрезмерно высоких воротничках.
– Мила, но держится словно гризетка, – ответил ему граф.
Сигарный дым заслонял собою стены, и только тусклый блеск канделябров да едва мерцающие в сизых клубах свечи показывали размеры диванной.
Выпили молча пуншу. Говорят, маркиз проигрался и не ведает, как сказать маркизе, – заговорил было снова тот же молодой человек, но сообщение сие не произвело ни малейшего эффекту. Как, однако, скушно, господа, – заметил вдруг доселе молчавший гусар. – А отчего собственно? А оттого, мне думается, что очень покойно. Пребываем тут, что в райской обители: и тепло-то, и сытно, и хмельно, и общество порядочное. То ли дело, если смерть за лосины цапает… О превратностях ратных вспоминаете? – тщетно пытаясь подавить зевоту, спросил худощавый старичок , пошевельнувшись, зазвякал орденами своими. Нет. Иное, – помрачнел гусар. – Есть иные превратности.
– Верно, волки? – предположил старичок. Волки! – сардонически усмехнулся гусар. – Волки – пустяк. Я волку, сударь мой, и в рукопашной шею сверну. Тут иное… Истинное страшное. Впрочем, к чему вам… Право же, расскажите. Бабин! – заговорили все разом. Расскажите, голубчик, – попросил и старичок, – ведь любопытнее, нежели страх, ничего нету. Что ж, коли так, извольте, – пожал плечами гусар и, отхлебнув пуншу, начал повествование свое.
“Начну, что ли с начала. Произведен я от семейства весьма обыкновенного. Тятенька мой, майор Афанасий Паисьевич Бабин имел душ этак семьдесят восемь и дни свои коротал в заячьих охотах. Маменька, Мария Власьевна, распоряжалась челядью да воевала с любимицами батюшки, легавыми собаками, кои непрестанно лезли в комнаты.
Конюх на охапке сена разом двух девок дворовых щекотит, да по непотребностям ихним пошлепывает, да приговаривает эдак: “Уж вы ли не пристяжные мои?”
Окромя родителей моих, собак наших да зайцев, плацдарм детства моего обставлен был еще кучкою дворни, вседневно шмыгающей по дому и по русскому обычаю норовящей стащить у господ все, что ни попадя: хоть ниток из хозяйкиного рукоделия, хоть заячью ляжку с господской кухни. Процветали в дворне и амуры: залезешь ли в чулан вареньица тайно отведать, а там уж нянька с лакеем Вавилою на полу разлегшись беспардонно блудят; забредешь ли на конюшню, волосок из хвоста конского выдрать (из оных волосков делал я во младенчестве ловушки птичьи), глядишь, а уж конюх на охапке сена разом двух девок дворовых щекотит да по непотребностям по ихним пошлепывает, да приговаривает эдак: “Уж вы ли не пристяжные мои? Уж я ли не коренной?” Пойдешь ли в сад падалицей полакомиться, а там как раз ключница с поваром Гаврилою такие коленца откалывают, под яблонькой пристроившись, куда там парижским сладострастникам!
Так что покудова маменька, бранясь и стеная, с кушеток да с канапэ лягавых стаскивала, в имении нашем творились разврат и разорение. Земля, натурально, не рожала: всю окрестность зайцы перепаскудили. Не надо быть тут господином Сперанским, чтобы из всего этого заключить о моем невежестве и раннем греховном познании. Едва вступив в отроческие годы, я, что заяц на капустном поле, вовсю жировал средь дворовых девок и баб. Влюблялся ли я в те годы? Отвечу определенно: да. Но лишь единожды. И любовь сия обернулася ужасной прелюдией к мрачнейшим событиям дальнейшей жизни моей.
В ту роковую осень сравнялось мне четырнадцать годов. Помниться, еще не взошло солнце, шел я через худосочный наш, жестоко траченый зайцами осинничек, уж не припомню теперь с какой-такой целью. Со мною был Закусай, любимая лягавая собака тятеньки. Сердце мое отчего-то сильно билось. В осинничке было сумрачно. Глухой перекатистый шум немного пугал меня. Внезапно Закусай надрывисто затявкал. И тут показалась вдруг молодая крестьянка. Она была, казалось, насмерть перепугана. Румяныя губы ее дрожали, на бледном лице странно горели черные глаза. Я поспешно отозвал Закусая и поспешно промолвил, разглядывая в то же время красавицу:
– Небойсь, милая, собака моя не кусается.
– Да нет, барчук, она вишь какая злая: опять кинется, – вздохнула девушка.
Я провожу тебя, если боишься, – сказал я ей, и в уме своем стал прикидывать, как бы короче достигнуть шалаша, что был устроен тятенькою на краю осинничка. – Откуда ты, – между тем спрашивал я.
– Из Орлякина. Я дочь Василия кузнеца. Иду по-грибы, – отвечала она. “Вот как, – подумал я, – Странно, однако…”
Кузнец Василий совсем молод еще был. И не женат как будто… Я хорошо знал его. Он часто являлся в наш дом побаловаться с кухаркою Дуней. “Ужели у него дочь невеста?” – недоумевал я.
Но тут взгляд мой обратился к пунцовым губам ее, и я уже более не поминал кузнеца Василия.
Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, я было хотел обнять ее, но она вдруг отпрыгнула от меня.
– Если вы хотите, чтоб мы и впредь были приятелями, – сказала она с важностью, то не извольте забываться, – идите-ка в одну сторону, а я в другую. Прощенья просим.
Она хотела удалиться, но я удержал ее за руку. И хоть мысль моя была сосредоточена на другом, я все же вздрогнул: рука ее холодна была неимоверно, а ногти столь остры, что на ладони моей проступила кровь. При виде крови в глазах ее явственно отразилось волнение, щеки запылали румянцем, губы вытянулись, словно призывая к лобзаниям.
Солнце, между тем, готовилось уж взойти. И торопя появление оного светила, запел в Орлякине петух.
Красотка, вдруг охнула, выдернула из руки моей мраморную ручку свою и воскликнула:
– Да пусти же, барчук! Мне домой пора!
– Как зовут тебя, душа моя? – спросил я, нехотя ее выпуская.
– Акулиной, – отвечала она убегая.
– Шалашик знаешь, Акулинушка? – крикнул ей вдогонку я.
– Как не знать! – отозвалась она, обернувшись.
– Приходи же… – сам не свой, молил я.
– Ладно, – отозвалась она. – Приду, пожалуй.
– Когда же?
– А как солнце сядет.
– Побожись!
Она захохотала вдруг с неожиданной громогласностью и пропала с глаз.
Ни единого разу не наведывался я в тот день в девичью, что было в те времена решительно противу тогдашнего обычая моего. До сумерек скитался я по комнатам, не различая ни креслица, в коем дремал, ожидаючи обеденного часу, тятенька, ни турецкого дивану с отдыхающею маменькой на оном. Спотыкаясь о сии препятствия на бесцельном пути моем, прерывал я то и дело родительское мирное отдохновение, и поколочен был даже маменькиною суковатою палкою, коей сражалась она с опостылевшими собаками.
Покамест скитался я эдаким манером, за мною неотступно следовал Закусай. То и дело заступал он мне дорогу, засматривая в глаза и непрестанно воя. Наскучив сим провожатым, я отшвырнул беднягу прочь сапогом. Никогда не отпустит скорбную память мою жалобный визг преданного существа! Поджимая зад, скуля, заползла бедная собака под старенькое рекамье, я же вышел из дому, побрел в сад, нимало не заботясь, что вспугнул прачку Ульяну, предававшуюся неге в объятиях околоточного надзирателя, специально прибывшего из уездного города.
В нетерпении сердца моего взглядывал я то и дело на отдаленный осинничек, дабы мысленно приказывать несносному светилу скорее приблизить закат свой. Оно же – так в безумии моем казалось мне – глумливо мешкало. Однако ж, как не мешкай, друг Гелиос, а вороные твои да игреневые влекут колесницу твою неотвратимо. Как ликовал я, безумец, когда все ж погаснул последний гелиосов луч. Гонимый неимоверною страстию, мчался я, словно заяц, от тятеньких лягавых, покудова не показался передо мною вожделенный шалаш. Подле него белелась рубашка любезной моей Акулины. Уж не вспомню, как оказался я в объятиях ее, и полудетскою своею, но увы, опытною рукою уж стягивал с тугого ее тела синий домотканый сарафан. Она же ледяными пальчиками уж расстегивала мне ворот, легонько раня шею мою ноготками. Уж многожды мы облобызались, и я, хоть и будучи лишен разума от страстных вожделений своих, заметил все ж, что поцелуи ее, хоть и сладки несказанно, однако ж весьма болезненны, и что она чересчур надавливает на губы своими беленькими зубками. Но вот красавица оставила губы мои и приблизила приоткрытый рот свой к моей открывшейся шее. Между тем, уж я стащил с нее и рубаху, и сарафан, и дрожащие руки мои жадно осязали ее гладкое тело. Внезапно она вздрогнула, с нечеловеческой силой отбросила меня и, воя, точно, как волки воют, завидя целящегося в них стрелка, прянула из шалаша.
– Акулина! Акулина! – отчаянно кричал я ей вслед. – Куда ты? Что с тобою?
Не замедляя бега своего, она на мгновение оборотилась , и гневно указуя на крестильный крестик мой, открывшийся взору (ибо рубаха распахнута была), крикнула:
– Что со мною? Об сей предмет лицо свое изранила я! – И она, нагая, устремилась через поле, прочь.
Запинаясь об заиндевелые заячьи следы (осень уж клонилась к зиме) бежал я за Акулиною стеная и лия слезы.
Посередине поля нагнал я ее, и, бухнувши в ноги, лобзал хладные стопы ее, дерзая промежду лобзаний подъять взор на всю фигуру. Луна, младых любовников всевечная пособница, светила усердно, и Акулина казалась отлитою из бронзы, и даже с зеленцою, точь-в-точь похоже то было на фонтан, что к украшению служит уездному городку Мышево-Кошанску, куда папенька возил меня как-то по случаю тяжбы с соседом за Орлякинский осинник. Более всего сделал на меня впечатление именно фонтан, сиречь нaгая барыня, оседлавшая, кажется, белугу, у коей из пасти проливалась водица. На бюсте и пониже спины означились у ней зеленые пятны. “Что сие за пятны?”- вопросил я, помнится, тятеньку. Вследствие вопроса моего тятенька было впал в замешательство, но господин, так же любовавшийся на фонтан, прелюбезно разъяснил, что пятны сии патиною прозывают, они заводятся от древности. Пятны на чудном теле акулинином нарисовала, видно, луна свечением своим. Где было знать мне, отроку-недорослю, что пятны те суть клейма богопротивной нежити…
Я содрогаюсь, вспоминая, как лобызал сии пятны, как унижаясь молил ее отдаться мне вполне…
Рука ее холодна была неимоверно, а ногти столь остры, что на ладони моей явственно проступила кровь. При виде кровив глазах ее отразилось волнение…
– Ну, барчук, ладно… – молвила она наконец, – быть тому… Ступай сейчас домой, покуда маменька твоя тебя не хватилася. В спаленке окно прираскрой да в постелю и ляг, да сними, слышишь, вещицу энту…
Она указала на крестик и, оттолкнув меня, все с той же дикой жадностью умчалась.
Надо ли говорить, что вбежав поспешно в спальню свою, я чуть не повышиб стеклы, растворяючи оконце, и не медля ни мгновение, стащив с груди своей крестильный мой крестик – покойницы-крестной подарочек, – кинулся в постелю. Я, думается мне, забылся легкою дремою и привиделось мне, будто волк, изогнувшись колесом лезет из палисада. И прокравшись к постеле, вспрыгивает на оную. Тут заметался я и пробудился от дремы. Что же увидел я? Скажу прямо: картину, поистине, страшную. Надо мною склонялася Акулина: волоса ее дыбились торчком, совершенно красныя очи жгли лицо мое, искаженный злобною гримасою рот с приподнятою, словно у ощерившегося хищника, губою не скрывал более длиннейших клыков, тяжкий запах тлена удушал меня, а тело ее, к коему я, еще в дремоте будучи, коснулся, сделалось не токмо холодным, но и будто склизким. Ужасная эта Акулина припала вдруг к шее моей.
Погиб ли я от зубов возлюбленной моей? Нимало! Спаситель мой, Закусай, внезапно появился из-под кровати моей и зарычал нешуточно. За стеною заворочалась маменька, заругался папенька. Акулина заскрежетала зубами и кинулась к окну. Я же вскоре заснул и привиделась мне птица с головою волка, и носилась сия тварь с жалобными воплями вокруг усадьбы нашей, покуда не сгинула за дальним осинничком.
Проснувшись поутру, бросился я к маменьке, поведал ей все. Добрая маменька совершенно меня утешила и уверила, что все мною рассказанное – и встреча поутру, и страшное свидание, – привиделись мне, накушамшись свининки. А на другой день, после обильных слез родительских, лошадки наши помчали меня в Санкт-Петербург, куда поспешал я ради обучения моего в достославном заведении, название коего – Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, гремело доблестными именами питомцев своих как в Российском Государстве, так и за границею. Вот и родитель мой во времен оны фехтовался тут с молодым Лермонтовым, с коим совместно постигал он военные премудрости.
Покойно раскинулся я в нехитрой наше бричке, отнюдь не ведая, что никогда не видать мне более драгоценных моих родителей, что бесценная маменька моя, равно как ангел-папенька, сгублены будут вампиршей Акулиною. Она же изведет и всю дворню нашу, не пощадит и несчастного кузнеца Василия, за дочь коего так бессовестно выдавала себя. Ничего не оставит злодейка от орлякинского нашего гнезда. И борзые, и те кого преследовали они – бедныя зайцы – падут все до одного на некогда веселые угодья вотчины нашей…
Но ужасные сии события были до времени сокрыты завесою будущности, и я, безмятежный недоросель, влекомый родительскими лошадками, (надо ли говорить, что и лошадок не пощадит Акулина!) подъезжал к Петербургской заставе.
Санкт-Петербург, что и говорить, есть Санкт-Петербург. Взять хоть Марсово Поле, хоть Царицын Луг. Что за парады происходят в сиих местах! Что за публика! Что за выправка! Кого только не увидишь в Санкт-Петербурге! Хочешь кирасира? Увидишь кирасира. Хочешь драгуна? Увидишь драгуна. Хочешь кавалергарда? Увидишь и кавалергарда. Гусаров, и тех множество. Императора – и то узреть тут очень даже возможно. А нешто в Мышево-Кошанске увидишь августейшего нашего монарха? Особливо хорош Санкт-Петербург в сравнении с уездным городом нашим, уставленным особнячками, весьма дурно покрашенными одною зеленою краскою. Сравнишь ли, к примеру, Летний Сад с мышево-кошанским бульваришкою, который заполонили столь неприятные деревья, что порядочный человек и названий их знать не может. Сравнишь ли, опять-таки, великолепное Адмиралтейство с гадкой ватной фабричкой, производящей товару на гроши, а чадящей, что твои Демидовские заводы. А театрик наш, что безобразнее псарни в ином имении… И, наконец, надо ль сравнивать достойнейших петербургских господ с кошанским обывателем, доведшим себя до крайней степени беспардонности и уж появляющимся на улице среди дня совершенно в неглиже.
Военная школа полюбилась мне. Правду сказать, классические науки, равно как и фортификация, давались мне весьма плохо. Зато фехтование, танцевание, сражения на саблях и врукопашную, так же, впрочем, как пистолетная стрельба и выездка наполняли за меня гордостью сердца начальников моих.
Будучи в Санкт-Петербурге, не отказался я, однако, от амурного обычая своего.
Частенько, когда и начальники, и товарищи мои уже почивали, неслышно, будто мышь, выбирался я из дортуара, Бог весть, как крался мимо караула и оказывался на свободе.
К прискорбию моему, приходилось довольствоваться по преимуществу падшими существами, но даже их грубые ласки в какой-нибудь подворотне обходились во все присылаемое папенькой из Орлякина содержание.
Унылые эти утехи порядочно осточертели мне, когда однажды, на Cтрастной неделе, входя с товарищами на богослужение в Казанский собор, увидел я неподалеку поселяночку, весьма приятную собой.
Увидя мое внимание, она закраснелась и показала мне на ландыши.
– Ты продаешь их, девушка? – спросил я с улыбкою.
– Продаю, – отвечала она.
– А что тебе надобно, – спросил я опять.
– Пять копеек, – проговорила она, потупившись.
– Это слишком дешево, – проговорил я, таща из кошелька последний тятенькин рубль.
Девушка удивилась, еще более закраснелась и, уставя глаза в землю, пролепетала, что рубля на возьмет.
– Для чего же? – теперь настал черед удивляться и мне. Мои амурные экзерсисы и вся, уже порядочная, мужская опытность моя подобного бессеребреничества не знавали.
– Мне не надобно лишнего, – простодушно отвечала она.
– Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные рукой прекрасной девушки, стоят рубля, – воскликнул я с жаром. – А где, красавица, дом твой?
Девушка сказала, где она живет и пошла.
Этой же ночью был я у окон ее домика. Несмотря, что был уже поздний час, Лиза пряла, сидючи возле окна, и тихим голосом пела жалобныя песни. При виде меня она вскочила и закричала:
– Ах!
– Я очень устал. Нет ли у тебя свежего молока? – проговорил я, любуясь красавицей.
Услужливая Лиза тотчас же побежала на погреб, принесла чистую кринку, покрытую деревянным кружком, схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Пока я пил поистине божественный напиток, Лиза поведала мне, что приехала с отцом и матерью из мещерских краев. Представить только! Мы оказались с нею земляками! А когда она рассказала, что жили они в деревеньке Мышево-Кошанского уезда, радости моей не было пределу. Но, увы. История жизни лизиной оказалось весьма печальною. Тятенька ее по приезде в Санкт-Петербург вскоре умер, а мать-старушка так убивается по покойнике, что, пожалуй, недолго ей осталось пребывать в юдоли земной.
Возле домика, где жила моя Лиза, запомнилась мне речушка. И на следующий вечер, ускользнувши по обычаю своему, нанял я лодчонку (товарищи поверили мне в долг полтинник) и в таком виде явился я на рандеву к вчерашней знакомке.
Хотя и был темный вечер, красавица сидела на берегу и взор ее ловил белые хлопья туману, что появлялися в воздухе. Заслышавши веслы, Лиза было поднялась; я выскочил из лодки, стремительно подошел к ней и взял за руку. Бедняжка, видно, озябла, ибо ручка ее была холодна до чрезвычайности. Мог ли я в сей умилительной обстановке полагать неладное?
– Милая Лиза! – вскрикнул я невольно. – Милая Лиза! Я люблю тебя!
После мы сидели на траве, так, однако, что между нами оставалось немного места, смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу :
– Люби меня!
Таперича приплывал я к возлюбленной Лизе моей каждую ночь. Встречи наши были целомудренны. Жалость к бедной сироте твердо квартировалась в моем сердце.
Ее чудесная коса растрепалась, глаза мрачно горели, губы, набрякшие пунцовой кровью, мученически исказились, обнаживши ужасные клыки…
Но с каждою ночью застенчивая моя Лиза делалась решительнее, решительнее и вот уже она стояла передо мною с потупленным взором. Щеки ее налилися румянцем. Я приблизил губы к ее румяным губам, она рванулася в мои объятия так, отринув в миг единый всю прежнюю стыдливость свою, и с таким жаром облобызала меня, что почудилось мне, будто небеса пошатнулись над головою моею. Терпение мое вдруг изчезнуло, жалость к сироте немилосердно попрана была захватившей все существо мое безумной страстию. Казалось, еще мгновение, и последний бастион целомудрия падет безвозвратно.
– Нет! Никогда я не сделаю этого! – раздался внезапно вопль ее, и, оттолкнув меня, да с такою силою, что едва я не упал в речушку, вскочила она на ноги. Ее чудная коса растрепалась, глаза мрачно горели, губы, набрякшие пунцовой кровью, мученически исказились, обнаживши ужасные клыки… Внезапно поднесши руки к изменившемуся лицу своему, она зарыдала.
– Что с тобою, друг мой Лиза? – еще не вполне осознавая происходящее, вопрошал я ее.
– Несчастие… – молвила она словно сквозь силу. – Благодари Фортуну, что за искренность твою, пощадила я тебя! Гляди! – она выставила клыки свои, и они страшно блеснули в лунном свете. – Аль не видишь, кто перед тобою?
– Право же, полно тебе, Лиза, – совершенно растерявшись, бормотал я.
– Эй, чего уж там, – вздохнула она. – Утопилась я давеча в первопрестольной в пруду… возле Симонова монастыря. Соблазнил меня барин один да и бросил. Он под венец, а я – в пруд. И себя, и матушку извела, душу загубила. За богопротивный поступок сей отрекся Господь от бедной Лизы… А уж силы злодейские – тут как тут! Мигом окрутили, обольстили, жизнь вечную, слышь, посулили. Что ж, не обманули, чай… – она усмехнулась, и ставшие совершенно красными глаза ее, сверкнули. – Как солнцу всходить, ложуся в землицу под дубок тот, где с изменником миловалась, а как закатится – просыпаются во мне силы, преодолеваю я гроб свой, землю над собой подъемлю, выхожу вон и оборотившись в туманность, поспешаю в Санкт-Петербург. Ибо не могу я делать страшное дело мое в первопрестольной, где родители опочили. В Петербурге, слышь, вновь облик свой девичий принимаю, молодежь завлекаю, кровь выпиваю ихнюю, а после обращаю жертву свою в нового вампира… Как найду жертву, присасываюсь к горлу ее, и надкусивши жилу, пью, покудова не наполнюсь. Сытости мы, вампиры, отнюдь не ведаем. Взгляни-ка! Видишь на клыках моих дырки? – Она запрокинула голову, и я действительно увидел, что в ужасных клыках ее зияют круглые отверстия. – Кровь жертв наших, – продолжала она, – в те дырки вливается и по особым трубкам льется в утробу нашу. А после мы отдаем ее…
– Кому же? – прошептал я, совершенно убитый.
– Сие – тайна, – вздохнула она, – тебе же, друг мой, знать надлежит: таперича вампиры в покое тебя не оставят. Думаешь, я первая у тебя такая?
– Словно бы так… – растерявшись, говорил я.
– Отнюдь, друг мой, отнюдь, – вздохнула она горше прежнего,
– Акулина твоя не привиделася в дреме, как матушка тебе сказала, но в яви повстречал ты ее. А теперь скажу тебе, как различать нас надобно. Примет немало, и первейшая такова: хладен вампир телом, да горяч взором. А при лунном свечении глаза наши, что рубины красные делаются. Само собой – клыки у нас… Помни, друг мой, ежели какая особа не кушает, нe пьет, доглядывай: не вампир ли перед тобою, ибо вкушать яства и пития нам заказано… Если возлюбленная твоя до заката ни почем не явится, а до восхода непременно исчезнула, опять доглядывай, не вампир ли? И еще, друг мой, знай, в поганых телах наших – сила отнюдь не человеческая… И еще очень верная примета: в зеркалах мы отразиться не умеем… Стало быть, ежели кто в зеркале не отразился, знай: вампир это, беги его… В мышь летучую, в волка, ворона, сову, в туман, цветок болотный – всегда обернуться может вампир…
Она замолчала и, кажется, забыв обо мне, тяжко задумалась.
– А что же делать, друг мой Лиза, коли встречу я …вампира? -спросил я, склоняясь к ней.
– Есть средства известные: боится вампир креста, так и цвета шиповника, чеснока цветущего, серебряной пули, кинжала, а пуще всего – ежели кто в могилу его, пока он отдыхает во гробе, осиновый кол воткнет… Впрочем, довольно. Ступай! Как бы полная луна в соблазн не ввела…
Я было поднялся, но она остановила меня.
– Постой-ка, друг мой, – желаю я просить у тебя одной милости.
– Изволь, – будучи словно в тумане, молвил я.
– Как закончишь дела – а ждут тебя заботы тягостные и дары ужасные – поезжай в Москву, сыщи могилку мою, ее всяк на Москве знает. Спроси лишь, где тут могилка Бедной Лизы-утопленницы. Ступай к той могилке, едва солнце взойдет и прихвати осиновый кол, да где землица тихонько приподнята будет (сей знак оставлю), втыкай кол. Из-под земли тотчас стон пойдет, скрежет зубовный, вой… Не смущайся сим: знай, на кол жми, покудаво в могилке не утихнет. Сделав сие, друг мой, душу мою загубленную спасешь ты… Ступай, однако…
Я сел в лодку, она оттолкнула ее и вмиг исчезла, только клочок тумана объявился вдруг и долго еще сей клочок провожал лодку мою…
Ужасные удары, о коих предсказала бедная Лиза, посыпались на меня в тот же день. Едва вернулся я в заведение свое, как уже сказали мне, что дожидается меня орлякинский человек. Он и поведал мне о кончине маменьки, папеньки и гибели всей дворни. Лишь он один спасся, в роковую ночь будучи смертельно хмельным на свадебке сына в отдаленном селении. Тела несчастных были совершенно лишены крови. Когда прибыл я на место ужасного несчастия, то и животные уже сделались мертвы. Рыдая и стеная, отточил я молодую осинку и тайно вогнал сей кол в маменькину могилку, а потом и в папенькину. С тех пор сделался я совершенно сед. Отплакавшись, уехал я в Москву и сделал там все, как приказала Лиза. О том, как выполнял я сей ужасный обет – умолчу, ибо воспоминания о том тягостны несказанно. Скажу лишь, что сделал все, как велела бедняжка, и роняя обильные слезы на могилку несчастной девушки, простился с нею навеки и покинул Москву.
Неумолимое время, однако, шло, уж позади осталась и юность моя, окончена была мною Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, и определен был лейб-гвардии в гусарский полк, стоявший в Царском Селе, но ввиду всех потерь моих, столь я упал духом, что сию почетную службу полагал для себя невозможною и попросился быть армейским офицером в Мышево-Кошанск, дабы поближе быть к родительским могилам.
Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира. Вечером пунш и карты. В Мышево-Кошанске не было ни одного открытого дома, ни одной невесты, мы собирались друг у друга, где, кроме мундиров своих, не видели ничего. Единственное, что вносило хотя несколько оживления в унылыя дни жизни нашей, была железнодорожная станция, где какие-нибудь четверть часа стояли курьерские поезда, что курсировали между губернским городом и Москвою. Помнится, событие это случалось по субботним вечерам, часу эдак в восьмом, и те из нас, кто еще не впал в тяжкие объятия армейского Морфея, являлись на станцию, обряженные в гусарский мундир, чакчиры, а то и лосины – с лядункою на поясе, в коей тяжко побрякивали пистолетные патроны, в позлащенной фуражке, в новейших сапогах со шпорами, при сабле.
Там прохаживались мы, заглядывая под шляпки сошедших освежиться мышево-кошанским воздухом петербургских дам, отпуская порой двусмысленные комплименты, и уж тем бывали счастливы, ежели хорошенькие глазки хотя бы скользнут по усам нашим, над коими усердствовали мы часами, глядясь в обильно крaпленое мухами зеркальце.
То было черное бархатное платье, открывавшее ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые рукис тонкою крошечной кистью.
Однажды зимою, порядочно будучи пьян, вышел я из убогого жилища моего и по обыкновению побрел на станцию, хотя и ненастье разыгралось в тот вечер не на шутку. Когда достигнул я станции, страшная буря уж рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции. На мгновение буря затихла, но потом опять налетала с такими порывами, что казалось, нельзя противостоять ей. Какая-то дама, укутанная поверх пелерины в платок, глубоко вдохнула морозный воздух и уже вынула руки из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон, как вдруг колеблющийся свет фонаря осветил ее всю. Она была очень красива. Во всей ее фигуре видны были изящество и скромная грация. Сдержанная оживленность играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Я тотчас определил ее принадлежность к высшему свету. Приложив руку к козырьку, я наклонился перед ней и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь? Она довольно долго вглядывалась в меня.
– Зачем вы тут? – спросила она, наконец, опустив руку, которою взялась было за столбик.
– Зачем я тут? – повторил я, глядя ей прямо в глаза. – Вы знаете… Для того, чтобы быть там, где Вы. Я не могу иначе.
И в это время, одолев препятствия, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза…
– Это дурно, что вы говорите, и я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали, как и я забуду, – сказала она, и быстро вошла в тамбур вагона. Поезд тронулся, и она пропала из виду.
С того рокового вечера жизнь моя совершенно переменилась. Кутежи сделались досадны мне. Всю неделю дожидал я, когда пойду встречать курьерский, в коем – если даст Бог – увижу мою таинственную барыню.
Увы… Уже скончала дни свои матушка-зима, уж прижимистое наше мещерское солнышко вступило в пору весенней службы своей. Весна хозяйкою разгуливала там и сям, и бледный пух новорожденных листьев древесных пахнул словно бы каким-то неведомым клейстером. Офицеры колобродили сверх обычного, стремясь утопить в хмеле ожившую по весне мечту свою о любви порядочной женщины.
Медленно, уже не надеясь боле на счастие, променажничал я возле путей, ожидаючи курьерского. Наконец, курьерский поезд означился, сердце взметнулось под ментиком моим. Мгновение – и уж опытный взор мой облетает окошки вагонов, не упуская ни единой подробности. И вдруг… о, я истинно не верил глазам своим – выставляется передо мной фигура… Я видел ее отчетливо: то была она… Одетая в белое с шитьем платье, она сидела в углу купэ перед охапкою цветов в простой вазе, и обеими прекрасными руками ее придерживала. Я остановился в восхищении глядя на нее, но окно ее уплывало, и я, опамятовавшись, пустился в преследование.
Увидев меня, она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли. Поезд стал. В два прыжка был я у двери, упoвая на выход ее. Она и в самом деле появилась, но из вагона не вышла.
– Зачем вы преследуете меня? – сказал она чудным своим грудным голосом и серые глаза ее, почти черные от ресниц, заблистали.
– Умоляю, как ваше имя? – проговорил я. Голос мой дрожал.
– Анна. Однако же, прощайте. Я не одета для путешествия. Я не могу стоять тут более…
– Туалет ваш прелестен, – с жаром вскричал я.
– Я вышла в сад сделать букет и внезапно… Впрочем, прощайте.
Она скрылась в вагоне и, подошед к окну своей купэ, задернула занавесь. Счастье мое сокрылось… поезд, засвистав, дрогнул и унес мою Анну прочь.
Пришед на фатеру и легши на жалкую oттоманку свою, раскурил я кальян и предался мечтаниям. Что-то странное было в приключении моем. Отчего Анна ехала в поезде в несвойственном случаю туалете? Отчего так сверхъестественно сверкают ее глаза? Отчего губы всегда столь румяны? Восхищаясь Анною и молясь на нее, невольно вспомнил я все ж наставления бедного друга моего, Лизы… И ужасные подозрения помимо моей воли сеяли в истерзанном сердце моем ядоносное семя…
Минула весна, кончалось лето. Ничто не разнообразило армейской жизни нашей в Богом забытом мещерском городишке, в коем сезоны разнились лишь тем, что заместо одних кровососов спешили заступить иные: не успеют бывало отступить от измученных тел наших комариные полчища, как уж идут в наступление эскадроны оводов. Гадостные эти проявления Натуры помимо воли моей направляли мысль к мрачным материям. “Неужто Анна…” – порой думал я, насильственно обрывая размышления свои.
Настала и осень. Верный обычаю своему, шагал я на станцию порою останавливаясь, чтобы обобрать со шпор бурые листья черт знает каких местных дерев. В лядунке лежало зеркальце, одолженное у хозяйки, целью коего было засвидетельствовать, способна ли моя возлюбленная Анна отразиться в зеркале его? Под фуражкою прятал я с лета еще припасенные и засушенные в специально взятой у товарища книге цветки чеснока, в руке же нес веточку шиповника, правда, уже не цветущую, но с плодами, в коих, полагал я, возможно, что и сохраняется магическая сила цветков. Вооруженный таким образом, явился я на станцию.
Поезд прибыл и стал. И вот я увидел ее… Но не верил глазам своим… А мне ль им не верить, если с пятидесяти шагов попадал я без промаха из пистолета в пробку, раскупоривая тем шампанское, ибо пуля моя косвенно направлена была. Не хвалясь, скажу: сим умением снискал я в полку уважение товарищей моих.
Однако отклонился я… Итак, в третий раз предстала передо мною Анна. Она стояла, чрезвычайно прямо держась. Ее полное тело ловко облегал бальный туалет. То было черное низко срезанное бархатное платье, открывавшее ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечной кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее в черных волосах – своих, без примеси – была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса, между белыми кружевами. На точеной крепкой шее была нитка белого жемчугу… Смятение охватило меня. Радость неразрывно смешана была с тревогою. Путешествовать в бальном платье… Мыслимо ли это?.. Пока размышлял я, мрачнея все более и более, Анна появилась у двери. Она протянула мне руку. Я вздрогнул. Рука ее чрезвычайно была холодна. Вызывая удивленные взгляды обывателей, Анна сошла с поезда. Заметив, что от ее прикосновения я вздрогнул, она, сверкнув глазами, промолвила:
– Верно руки мои холодны? Ах, все равно… Я видите оделась для бала и внезапно… Впрочем… Ах, я не могла больше без вас, господин… – она замешкалась.
– Бабин, – представился я, щелкнув каблуками.
– Бабин… – грудным голосом повторила она, – Бабин… Она зарумянилась, и глаза ее, как показалось мне, алчно сверкнули.
Я решился. Еще раз щелкнув каблуками, я протянул ей веточку шиповника.
– Право, Бабин, что это за гадость? – воскликнула она, отпрянув от протянутой мною веточки? – Какие вульгарные ягоды! Этот ужасный цвет…
Я силился разглядеть, нет ли в румяном ее рту роковых клыков вампира.
Веточка моя и вправду была вульгарна, однако, отринув всякий cмысл, я счел восклицание Анны лишь подтверждением самых мрачных моих предположений. Бедный шиповник я, разумеется, тотчас бросил и даже наступил ногою. Анна же, с неимоверною силою сжав руку мою (что истолковано было мною не знаком страсти, но как проявление силы вампирской), прошептала:
– Ради вас, Бабин, я гибну… Вообразите же, я покинула бал! Как недоумевает сейчас муж мой, сановный до чрезвычайности… Однако… – Она вдруг сморщила точеный свой нос. – Чем это пахнет столь противно у вас под фуражкою?
– Извините-с. Может быть казармою?
– Нет… – проговорила она, морщась, – ах, да снимите же ее… Ведь это нестерпимо!
Я вынужден был снять фуражку, из коей натурально посыпались сухие цветки чеснока. Ногою я смел их на рельсы.
– Полагаю, хозяйка сие устроила… – пробормотал я, – от моли…
Анна рассмеялась, Я силился разглядеть, нет ли в румяном ее рту роковых клыков вампира, но смеясь, она раскрывала рот столь мало, что заглянуть в него нисколько было невозможно.. Смех ее внезапно оборвался и она проговорила смущенно.
– Ах, Бабин… Что делать? Прическа моя совершенно нарушилась…
И вправду своевольные короткие колечки курчавых волос выбились на затылке и висках.
“Вот оно. Сейчас испытаю”, – решился я и, выхватив из лядунки зеркальце, поднес ей, пробормотав, несколько, разумеется, смутившись.
– Вот, не изволите ли зеркальце…
Она отпрянула.
– Что вы! Помилуйте! – воскликнула она, залившись краскою. – На вокзале! В будуарное зеркальце глядеться!? Пусть я гибну! Пусть я – уж пала нравственно! Но не настолько же! Спрячьте же его…
Я спрятал зеркальце, в душе моей сделалось темно…
Ее лицо также приняло мрачное выражение.
Отчего так сверхъестественно сверкают ее очи? – Вот, не изволите ли зеркальце… Она отпрянула.
– Бабин, я решилась, – прошептала она, в упор глядя на меня. – Я уйду от мужа. Я стану жить с вами, на фатере вашей… Мы будем любить друг друга, как никто еще никого не любил. Мы сольемся с вами всею нашею кровью!
– Нет! – вскричал я и бросился прочь. Как благодарил мысленно я Лизу за спасение души моей и тела моего!
– Бабин! – в отчаянии кричала вслед мне Анна. – Воротитесь, не вводите меня в крайность!
Я не обернулся. Я бежал, покуда нога моя не поскользнулась об арбузную корку, брошенную одичавшим каким-нибудь мышево-кошанским обывателем. Я упал, и покудова cтанционный смотритель и околоточный надзиратель поднимали меня, раздался вдруг истошный крик. То был последний крик Анны, бросившейся под товарный состав, на коем через городишко наш возили в губернский город швейцарские конфекты, гармоники из Варшавы и бревны из сибирских губерний.
Когда поднялся я на ноги, уж все было кончено.
Не стану докучать ужасными подробностями, скажу одно: когда увидел я в станционном зале тело погибшей Анны, рыдания потрясли все существо мое: ибо на обнаженной груди ее смертным мне упреком сверкнул золотой крестик. Как только сумел я, в слепоте своей не заметить его ранее на столь открытом ее бальном наряде?
С тех пор я более не ведал счастия…”
Бабин умолк. Молчали и остальные. Удрученный, покидал я гостеприимный дом кузена моего Алексея Орлякина-Орлищева.
“Нет, – садясь в карету, размышлял я, – неправ старичок, полагая страх материей наилюбопытнейшей. Страх, напротив, вещь унылая, могущая толкнуть благородного человека к роковой ошибке и даже злодеянию…”
Подумав так, решил я запечатлеть услышанное от гусара Бабина в назидание юношеству.
![]()
ИРИНА СУМАРОКОВА: РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В ОРЛЯКИНО
Рукопись повести графа Григория Орлякина-Орлищева (даты жизни неизвестны) я нашла на чердаке моего дома в деревне Орлякино. Этот дом я купила у вдовы местного учителя. Выбрасывая хлам с чердака, я увидела тетрадь в красном сафьяновом переплете. Пожелтевшие страницы были исписаны ровным, красивым почерком.
Рукопись оказалась небольшой повестью с заглавием, посвящением, эпиграфом и подписью автора, который скорее всего был прямым предком (вероятно, дедом) последнего владельца имения Орлякино.
От этого имения почти ничего не осталось. Усадебный дом в свое время сожгли. Кардегардии и другие строения разломали, чтобы использовать для хозяйственных нужд; ограду кусками перетаскали на кладбище. Почти все графское имущество бесследно исчезло. Только иногда, зайдя в какую-нибудь орлякинскую избу, можно увидеть среди обычного скарба прехорошенькую вазу с тремя грациями или цветочным мотивом в медальоне; или вдруг у кого-нибудь в дровяном сарае распускался неизвестный цветок, хищно раскрывал мясистый зев, испуская удушливый запах, но, не найдя оранжерейного ухода, быстро истлевал.
Не знаю, как очутилась на учительском чердаке эта тетрадь, но знаменательно, что записанный в ней рассказ о вампирах, обнаружился именно теперь, когда Гласность возвратила нам знание об этих персонажах многих поверий, и теперь уже не возбраняется размышлять о том, действительно ли существуют вампиры.
Несколько слов о литературных особенностях “Мещерских вампирш”.
Наши известные литературные критики, которых я ознакомила с найденной рукописью, отнеслись к ней по-разному. Но в одном были единодушны: “Мещерские вампирши” – типичное беллетристическое произведение девятнадцатого века. В нем заметно влияние А.С. Пушкина, Н.М. Карамзина, А.К. Толстого, Л.Н. Толстого, и др. Впрочем, специалисты считают, что автор не лишен творческой индивидуальности и таланта рассказчика. Кроме того, они признают, что эта повесть небезынтересна, как еще один источник, проливающий свет на быт и нравы девятнадцатого столетия.