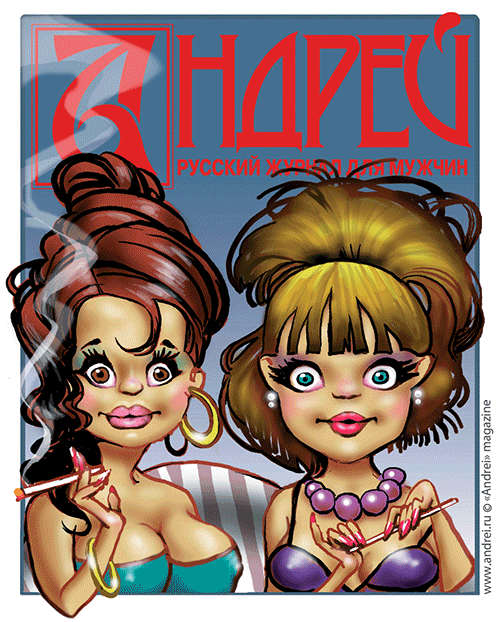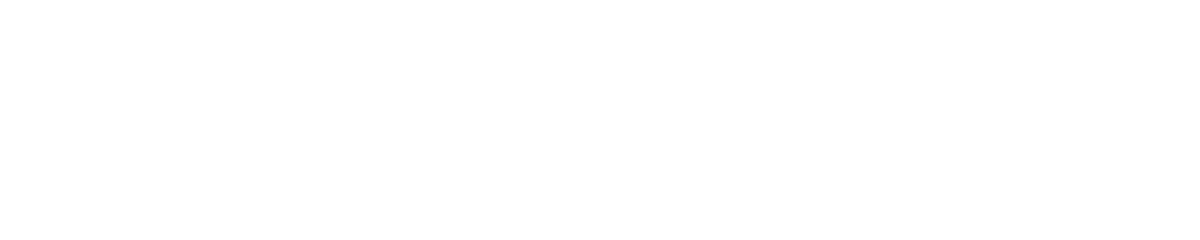Жизнь и переживания Вовы В.
Владимир Войнович | Иллюстрация Игоря Гончарука
От Автора: “Я думаю, что в журнале “Андрей” самое место для моих рассказов о некоем мальчике, Вове В., о его открытиях, переживаниях и проблемах, возникавших в процессе роста и взросления. Получив в семье и школе весьма дурное (то есть никакое) половое воспитание, он добирался до сути наугад и на ощупь (в буквальном смысле) так же, как почти все другие мальчики его и не только его поколения”
ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда в 1989 году советские девушки сфотографировались впервые в американском журнале нагишом на фоне Василия Блаженного, Царь-Пушки и еще чего-то священного, американские телевизионщики спросили меня, как я отношусь к такому событию. Я ответил, что отношусь положительно, как к форме общего просветительства. Теперь советские люди сами узнают, что они под одеждой голые и поймут, что секрет этот известен нашему главному стратегическому противнику. Что, в конце концов, приведет нас к сближению и полному взаимопониманию, потому что противник без одежды выглядит точно так же, как мы.
Лично я человек испорченный и к разным священным символам отношусь с дозированным, что ли, почтением. А к некоторым и вовсе без оного. Недавно по телевидению уральские кавээнщики сострили что-то насчет гимна Советского Союза, в эфир острота была пропущена, но со строгим замечанием некоего телевизионного начальника, что, мол, гимн этот – нашей страны, он покуда не отменен, и смеяться над ним грех. А мне так не кажется. Мне кажется, что гимн этот не нашей страны, России, а несуществующего Советского Союза, содержит слова, которые сейчас ни в какие ворота не лезут, да и когда лезли, уважения не заслуживали. И многие другие “священные” реликвии мне (и не только мне) порядком обрыдли. Флаг, герб, серп и молот – нас столько и усердно принуждали преклоняться перед этими вещами, что вызвали реакцию отторжения.
Разумеется, советские символы можно назвать священными только с употреблением кавычек, но и к несоветским подобного рода понятиям следует относиться сдержанно. Когда (давным-давно) я был солдатом, нам наши командиры вменяли в обязанность беречь знамя пуще зеницы ока, и если оно будет гореть, или тонуть, или подвергаться другой опасности, то бросаться в огонь и в воду, жизнь свою положить ради этого куска выцветшей мануфактуры. Предмета, который можно уважать и нужно беречь, но все же не ценой человеческой жизни, она в нашей иерархии ценностей должна стоять на самом высоком месте.
Секс – занятие полезное,
но злоупотреблять им так же глупо,
как обжираться пирожными
Я думал так, знакомясь с русским журналом “Андрей”, и пришел к давно вынашиваемому выводу, что нас слишком перекормили этими атрибутами и отнестись к ним с некоторой иронией совсем не мешает. Эта ирония и возникает от соседства священного символа – пушки или знамени – с аппетитно изогнувшейся голой девицей. При виде подобных изображений люди пуританского склада произносят слово “пошлость”, а более суровые поднимают тревогу: “Караул! Кощунство!”.
А зачем, и кому это мешает? В Мюнхене, где я прожил много лет, обнаженным телом в панику никого не вгонишь. Полно нудистских пляжей и смешанных бань, а выйдешь в центральный городской парк Энглише Гартен, и там голая публика охотно демонстрирует себя во всех возможных подробностях, раскинувшись вдоль пешеходных дорожек, прогуливаясь или играя, например, в бадминтон (что позволяет эксбиционистам обоего пола выгибаться так, чтобы не скрыть ни малейшей на себе родинки). Парк этот нудисты себе отхватили в результате многолетней и упорной борьбы с полицией. Они раздевались, одетые граждане вызывали полицию, полиция тащила раздетых в участок. Но нудистов становилось все больше – и полиция в конце концов капитулировала. Теперь борется только с теми, кто, не имея на себе ничего, норовит выйти на улицу и даже прокатиться на трамвае. Разумеется, без билета, поскольку голый человек – не кенгуру и природных карманов на себе не имеет.
В трамвае, конечно, слишком, а там, в парке, к голым все так привыкли, что обращают на них меньше внимания, чем на одетых. Потому что у всех одно и то же. И никакого разнообразия.
Пожив на Западе, я понял не только необходимость, но даже мудрость всякой свободы. Человеку следует разрешить все, кроме насилия.
Наши особо целомудренные сограждане все время бьют тревогу по поводу нынешнего освобождения нравов и требуют запретить. Запретить нудизм, фривольные издания, эротику, порнографию, сваливая это все в одну кучу. Порнография вызывает больше всего эмоций: ах, как это можно и что будет, если “это” увидят дети! А между тем дети “это” рано или поздно увидят, если не на картинке, то в натуре, и влечет их к этому могучий и неодолимый инстинкт. И поэтому, порнография… я согласен, она отвратительна, но, как заметил однажды Владимир Буковский, взрослому человеку порнографию смотреть, может быть, и не стоит, а лет до четырнадцати, почему бы и нет. Должен подчеркнуть, что я никоим образом не рекламирую сексуальную распущенность и тем более порнографию, но вреда в ней нет. Дети, к которым она время от времени попадает, узнают через нее то, что им так или иначе придется и надлежит узнать, а потом они это смотреть не будут, потому что потом это просто скучно. А если некоторые из них сохранят интерес к подобным картинкам до старческого маразма, то и Бог с ними, они сами никому ничего плохого не делают.
Со времен дедушки Фрейда отношение к вопросам пола в мире постепенно меняется. По телевидению квалифицированные специалисты объясняют массовому зрителю, как укреплять в постели семейные узы, что нужно (все нужно) и можно (все можно) делать половым партнерам, чтобы доставлять друг другу наибольшее наслаждение. Родители обсуждают эти вопросы со своими детьми, на уроках сексологии девочки тренируются в натягивании на деревянную болванку презервативов, а в молодежных журналах юных читателей учат, как наилучшим образом достигать максимального удовольствия и избегать негативных последствий. Мальчики наших дней, подрастая, своевременно узнают, как устроены девочки, и девочки, в свою очередь, тоже не остаются в неведении относительно мальчиков.
И мир при этом еще не перевернулся.
Конечно, при таком воспитании нынешние дети теряют возможность самостоятельного проникновения в жгучую тайну и не познают связанных с этим незабываемых переживаний, но при этом они избавляются от шока, к которому неизбежно приводили ложь, ханжество и лицемерие бабушек и дедушек.
Мой немецкий друг Ульрих работает учителем в мюнхенской гимназии. У учеников и учениц своих пользуется большим доверием. Бывает, девочки спрашивают у него то, что стесняются спросить у родной мамы. Спрашивают, в частности, можно ли вступать в половую связь до брака. Он отвечает, что, если очень хочется, можно, но в интимной жизни люди должны соблюдать те же правила порядочности, которые они соблюдают во всех остальных отношениях. Мальчикам на вопрос о разумной частоте половых сношений он отвечает, что секс занятие соблазнительное и полезное с точки зрения физического и психического здоровья, но злоупотреблять им также глупо, как обжираться пирожными.
«Андрей» – журнал для мужчин.
Все журналы такого рода привлекают читателя
изображением голых попок и пипок,
гоночных автомобилей и сигарет знаменитых марок.
Но лучшие из них перемежают эти изображения
иногда довольно серьезными текстами
Как это можно и что ж это будет при таком воспитании с нашим подрастающим поколением?
А ничего такого особенного не будет. Поколение подрастет и начнет плавить сталь, растить урожай, производить автомобили, строить дома, возводить плотины и запускать спутники. Ну, а в подходящее для этого время будет обниматься, целоваться и вступать в более близкие отношения для продолжения рода и для удовольствия, но со знанием дела и без лишних комплексов.
Что касается снимков в журнале “Андрей”, то они могут шокировать человека советского воспитания, но на самом деле они просто невинны, шутливы и озорны.
“Андрей” – журнал для мужчин. Все журналы такого рода привлекают читателя изображением голых попок и пипок, гоночных автомобилей и сигарет знаменитых марок. Но лучшие из них перемежают эти изображения иногда довольно серьезными текстами.
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПОДВИГ
Летом 1942 года Вове В. было около десяти лет, когда он со своими родственниками, тетей, дядей, бабушкой и двумя двоюродными братьями в результате второй эвакуации попал в Управленческий городок тогда Куйбышевской области, ныне Самарской. Там все эвакуированные жили в длинных, наскоро сляпанных бараках, никак не разгороженных, с нарами во всю длину. На этих нарах каждая семья занимала площадь в соответствии с суммой размеров членов семьи. Какой-то шутник специально для этих нар усовершенствовал закон Архимеда и применительно к здешним условиям сформулировал его приблизительно так: тело, уложенное на нары, вытесняет для себя столько пространства, сколько может покрыть собою, уложенное плашмя.
Живя в этом бараке, Вова В. едва не совершил подвиг, который мог бы быть воспет советской литературой.
Сначала у водоразборной колонки произошло интересное в своем роде знакомство. Вова поставил ведро, открутил кран, но вода текла медленно. Пока она текла, подошли две женщины в городских платьях. Одна отдалилась на шаг в сторону, расставила широко ноги и, даже не подобрав подола, стала мочиться, истекая гораздо эффективней, чем кран, под которым стояло ведро.
Другая женщина сказала:
– Галина Сергеевна, как вам не стыдно! Здесь же молодой человек.
– Ничего, – возразила Галина Сергеевна, не прекращая процесса, – это не молодой человек, а мальчик. И ему, наверное, интересно посмотреть, как писают тети. Правда, мальчик?
Мальчик густо покраснел, кивнул и потупил глаза. Ему было, правда, интересно. Он, конечно, и раньше видел, как тети писают, сидя и широко разведя колени, но вот чтобы так, стоя, как коровы, такого он еще не видел.
Этот эпизод, сам по себе интересный, мог бы забыться, но знакомство мальчика с Галиной Сергеевной продолжилось и могло иметь для нее трагические последствия.
В бараке, где жил Вова В., контингент был не постоянный. Какие-то люди его покидали, уступая место новоприбывшим. На нарах шли непрерывные перемещения, и в результате одного из них Галина Сергеевна стала Вовиной соседкой.
Свету в бараке не было, поэтому все ложились рано, как куры. Забирались на нары и пускались в долгие разговоры о войне, о прошлой жизни, о том, о сем. Однажды кто-то к чему-то помянул Сталина, и вдруг Вова услышал громкий голос Галины Сергеевны:
– Чтоб он сдох, проклятый!
За всю жизнь не забыл он то зловещее или, может быть, растерянное молчание, которое наступило за этими словами. Потом кто-то сдавленно произнес:
– Как вы смеете так говорить?
– А что? – лихо отозвалась Галина Сергеевна. – У нас в Ленинграде все так говорят.
Тут и подавно все замолчали, а потом дядя Костя сказал тихо, но директивно, как старший:
– Ладно, пора спать.
Больше в тот вечер ничего сказано не было. Люди еще поворочались и стали постепенно засыпать, каждый на свой манер: кто засопел, кто захрапел, кто застонал во сне, и только Вова В. долго не мог заснуть, ворочался и думал: почему взрослые так спокойно реагировали на кощунственные слова? Почему никто из них не сволок преступницу с нар и не отволок, куда надо? Неужели и утром этого не случится? Но если никто из взрослых не знает, что надо делать, придется ему, Вове, постараться за них. В очень раннем детстве Сталин ему не нравился, но прошедшее время он успел усвоить, что Сталин – великий вождь, и говорить о нем дурно могут только враги.
Хотя от подробного знакомства с советской литературой Вова В. был еще далек, о подвиге Павлика Морозова слышал лишь краем уха, но “Судьбу барабанщика” Гайдара уже прочел и более или менее знал, как распознавать врагов и что с ними делать, когда распознаешь.
Вова лежал на спине, смотрел в потолок и представлял, как утром пораньше пойдет в милицию и попросит, чтоб его принял лично начальник, а не кто-нибудь другой. Его, возможно, спросят: в чем дело. Он скажет, что дело очень важное, государственное, и довериться он может только самому начальнику. И никому ниже.
Она улыбнулась, как женщины улыбаются мужчинам,
а не маленьким мальчикам
Вова вообразил себе начальника, мудрого и усталого человека с седыми висками. Вова ему все расскажет, тот выйдет из-за стола, крепко пожмет Вовину руку и скажет:
– Спасибо, Вова, ты оказался настоящим пионером.
К слову сказать, пионером Вова тогда не был и потом им не стал. С мыслью о начальнике милиции Вова уснул. А утром, проснувшись, понял, что идти в милицию очень не хочется. Он посмотрел на то место, где спала Галина Сергеевна, ее там не было. Вова понадеялся, что кто-то из взрослых успел добежать до милиции и, пока Вова спал, преступницу арестовали и увели. И ему тогда не нужно будет идти к начальнику. Хотя, конечно, жаль было, что у начальника не будет повода выйти из-за стола, крепко пожать Вове руку и сказать, что он поступил как настоящий пионер.
Но, выйдя на улицу, Вова тут же увидел Галину Сергеевну. Она на табуретке в тазу стирала какую-то тряпку. Она занималась этим обыденным делом, даже, видимо, не вспоминая об ужасном своем преступлении. И что всего возмутительней, на лице ее не было заметно ни малейшего угрызения совести. Вова смотрел на нее и думал, что ничего не поделаешь, в милицию идти надо. И опять подумал, что не хочется. Хотя надо. Но не хочется. Хотя надо.
Она неожиданно подняла голову, и они встретились взглядами.
– Ты что так смотришь на меня? – спросила она удивленно и улыбнулась. Улыбнулась, как женщины улыбаются мужчинам, а не маленьким мальчикам. – Нет, правда, что ты так смотришь? Ты, может быть, в меня влюбился?
Этим вопросом она Вову очень смутила.
– Нет! – закричал он. – Нет! – и убежал.
И, убежав, подумал, что, может, и правда, влюбился. И именно потому, что влюбился, не побежал в милицию. А может, не побежал, потому что был слишком ленив. Или идейно недостаточно тверд. Или недостаточно тверд, потому что слишком ленив. Да к тому же еще и влюбчив. Влюбчив, нетверд и ленив, почему и не удостоился крепкого рукопожатия начальника милиции. О чем впоследствии очень не сожалел.
ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
Во втором и третьем классе Вова В. фактически не учился. Была война, и обстоятельства препятствовали учебе. То школа слишком далеко, то надеть нечего, то нечего есть. В четвертый класс Вова попал в феврале 1944 года, то есть уже во втором полугодии. Было это, если кому интересно, в Вологодской области, в деревне Новое. То есть, в Новом Вова учился, а жил в Назарове – между этими деревнями расстояние было километра, может быть, два. Вова и его родители приехали туда из Куйбышевской области и временно поселились в доме брата Вовиной мамы, Вовиного дяди и тезки, председателя тамошнего колхоза. В школу Вова ходил со своим двоюродным братом Эммануилом, или попросту Эмкой. Эмка был на два года моложе Вовы и ходил во второй класс, но сидели братья за одной партой. Такое было возможно, потому что тогда (а может быть, и сейчас) почти везде начальные деревенские школы были устроены одинаково. Одна учительница вела все четыре класса в две смены. В первую смену и в одной комнате учились второй и четвертый классы, а во вторую – первый и третий. Одному классу учительница давала письменное задание, с другим занималась устно.
Вове поначалу учеба, давалась трудно. В четвертом классе начали проходить дроби, которых Вова, ввиду долгого перерыва в учебе, совершенно не понимал. Но Эмка, будучи ребенком невероятно способным, в первом классе запомнил все, что преподавали в третьем, а во втором без труда усвоил все, что проходили четвероклассники. Ни один из них не мог с ним тягаться.
Эмка оказался не только хорошим учеником, но и прекрасным учителем. По дороге в школу или обратно он на снегу чертил и объяснял Вове дроби и, благодаря ему, Вова в конце концов не только догнал, но и перегнал всех своих одноклассников.
Эмка оказался хорошим знатоком и в других сферах. Именно он объяснил Вове, откуда берутся дети. Вовины собственные сведения к тому времени были половинчаты. Он знал, что детей рожают женщины, но даже не подозревал, что в процессе зачатия участвуют и мужчины. Теперь Эмка рассказал ему, что муж и жена по ночам раздеваются догола, он ложится на нее, вставляет пипку в ее пипку, и они, Эмка сказал: “утся”.
Даже то, что он просто сказал это слово, Вову удивило. Разумеется, это слово ему было уже известно, но он знал, что оно грязное, нехорошее, нельзя его произносить никогда, ни в коем случае, такие слова произносят только хулиганы и темные грубые люди, вроде старика Провоторова, который ездит на полудохлой лошаденке, нещадно полосует ее кнутом и матерится на всю деревню без всякого смысла. А смысл, оказывается, у этих слов очень даже имеется, “утся”, значит… Эмка подробно рассказал, что это значит, и даже на снегу начертил что-то наглядное. Вова к рассказу брата отнесся с большим недоверием. Эмка сердился и говорил:
– Ты разве никогда не видел, как …утся собаки и коровы?
Как делают это собаки, коровы и лошади Вова, конечно, видел. Но это были животные, которые вообще позволяют себе всякие дикие вещи. Они лежат в лужах, роются в помойках, могут сожрать висящее на веревке белье. От животных можно ожидать, чего угодно, но чтобы взрослые и приличные люди занимались тем, о чем рассказывал Эмка, а тем более эмкины или вовины родители, нет, этого Вова себе представить не мог.
Поначалу он даже поругался с Эмкой, утверждая, что тот плетет чепуху, но потом стал думать. И тут Эмка, как изощренный искуситель, подсунул Вове книгу из дядиволодиной домашней библиотеки. Какой-то французский роман о проститутке. Которая с разрешения мужа занималась этим по бедности и называлась “гулящая женщина”. Там достаточно подробно описывалась работа героини романа и испытываемое ею отвращение от какого-нибудь старика, обдававшего ее запахом гнилых зубов. В конце концов она заболела сифилисом и муж перестал ее беспокоить. Но однажды под наплывом чувств он не сдержался и … в книге было сказано: “Он привлек ее, одетую, к кровати…”
Как ни странно, именно эта фраза Вову разволновала больше всего. Что значит, он привлек ее одетую? Значит, в ее одетости было что-то необычное. То есть, обычно он привлекал ее раздетую. А если раздетую, если раздетую…
– Мама, – спросил Вова вечером, – а что такое “гулящая женщина”? Этот невинный вопрос маму очень смутил.
– Это нехорошая женщина, – сказала она неохотно. – А где ты слышал такие слова?
– Вот прочел здесь, – сказал Вова и показал маме книжку, полагая, что в книжке ничего плохого не напишут.
– А зачем ты читаешь такие книги? – спросила она. – Тебе такие книги читать нельзя.
Вова удивился, что есть такие книги, которые ему читать нельзя. Но не понял, почему нельзя читать и как узнавать, что книгу читать нельзя, не прочитав ее.
Рассказы Эмки, Вовины личные наблюдения над жизнью и уклонение родителей от каких бы то ни было объяснений по интересующему его вопросу стали причиной его ошеломительных догадок и мучительных сомнений на долгие годы. Взрослые его воспитывали так, что есть органы, функции организма и связанные с ними действия, о которых не только говорить, но и думать стыдно. А если взрослые раздеваются догола, ложатся друг на друга, занимаются тем, о чем говорил Эмка, при этом не сгорают от стыда и потом не стесняются смотреть в глаза друг другу и своим детям… Если то, чем они занимаются, не постыдно, то почему они это скрывают, а если стыдятся, то зачем занимаются? Как миллионы людей своего и всех предыдущих поколений, Вова испытал шок, разочарование во взрослых людях и в своих собственных родителях. Его переживание вряд ли было бы более сильным, узнай он, что его родители украли деньги или зарезали ребенка. Да и о самом себе он тоже думал весьма нелестно. Ему всегда говорили, что об этом нельзя думать, а он именно об этом, чем дальше, тем больше думал. И думал: какой я плохой, испорченный мальчик, раз я об этом думаю. Через какое-то время он стал испытывать некое влечение, которое казалось ему даже более постыдным, чем его мысли. А влечение проявлялось все чаще и сильнее, и Вова с ужасом думал о себе: какой же я в самом деле скверный, грязный, отвратительный мальчик, если у меня возникают такие желания.
МАРА И МАРЬЯ ИВАНОВНА
После Назарова был совхоз Ермакова, куда Вовин папа устроился работать бухгалтером. Поселилась вовина семья в коммунальной квартире на втором этаже двухэтажного дома. Соседями оказались бывшие кулаки из Ленинградской области, настоящие кулаки, а не выдуманные. То есть, просто богатые крестьяне. Соседка Серафима Ивановна рассказывала вовиной маме (а Вова подслушивал), что у нее до раскулачивания было шестьдесят ночных рубашек.
Муж Серафимы Ивановны, Александр Иванович, был здоровый мужик и работал на бойне. Профессия сделала его жестоким или жестокость помогла выбрать профессию, но он часто и до полусмерти порол свою пятнадцатилетнюю дочь Мару. Вообще из их комнаты всегда неслись нечеловеческие крики. То орала во время порки Мара, то он сам во время приступов язвы катался по полу и орал.
С ужасом думал о себе: какой же я
скверный, грязный, отвратительный,
раз у меня возникают такие желания
Мара была в отца, высокого роста и казалась Вове очень красивой. Вова был на три года моложе Мары, поэтому общения вначале не было никакого. При встречах в коридоре Вова с ней вежливо, как со взрослой, здоровался, она отвечала Вове надменным кивком. Но однажды, возвращаясь откуда то домой, Вова увидел Мару, она, прячась за уборной, курила. Вова хотел пройти, сделав вид, что не заметил ее, но она поманила его пальцем. Он подошел. Она курила, усмехалась и разглядывала его внимательно и не спеша. Потом спросила:
– Как дела?
Вова сказал:
– Ничего.
– Курить хочешь? – и протянула горящую папиросу.
Вова вообще-то уже покуривал, но, если б и не курил, тоже вряд ли бы отказался. Он прикоснулся к мундштуку папиросы осторожно, стараясь его не слишком слюнявить.
– Так ты ж не затягиваешься? – сказала Мара. – Разве так курят? Надо вот как. Набери полный рот дыма и скажи: “и-ии”!
– И-ии! – повторил Вова послушно.
– Да не так. Надо говорить, в себя втягивая: “И-ии! Наши едут!” Вова повторил, как она сказала, и не закашлялся.
– Молодец, – одобрила Мара. – Стих про ботинки знаешь?
– Про какие ботинки?
– Про папины. Хочешь прочту? Папе сделали ботинки. Не ботинки, а картинки, папа ходит по избе, бьет мамашу… папе сде…лали ботинки…
Надо сказать, что к тому времени Вова знал уже много стихов Пушкина, Лермонтова, Никитина и Кольцова, но таких стихов не слыхал.
– А песню про Сережу знаешь?
– Нет.
– Ну тогда повторяй: “Я поехал в Тифилис, Сережа. Заработал сифилис”. “Ну и что же?” “Надо к доктору сходить, Сережа. Стыдно, стыдно мне идтить”. “Ну и что же?”
Спевши песню со всеми употребляемыми там словами, она загадала Вове загадку: “Перед употреблением твердое, после употребления мягкое, состоит их трех букв, кончается на “и” краткое?
– Знаю! Знаю! – закричал Вова.
– Ничего ты не знаешь. Это чай. Плиточный чай пил когда-нибудь? Вот. Он перед употреблением твердый, как кирпич, а потом мягкий.
После этого Мара стала заманивать Вову в разные углы, рассказывать анекдоты и просвещать по сексуальной части, расширив его познания далеко за пределы, открытые ему двоюродным братом Эмкой.
И вот однажды, когда ни ее, ни его родителей не было, Мара заманила Вову к себе в комнату и, глядя ему в лицо своими большими голубыми глазами, спросила, понизив голос:
– Хочешь покажу?
– Что? – спросил Вова.
– Марью Ивановну, – сказала она, дыша глубоко и жарко.
Вова хотел спросить, какую Марью Ивановну, но не успел. Мара села на покрытый скатертью обеденный стол лицом к окну, чтобы было получше видно, задрала юбку и широко раздвинула ноги. Открывшееся зрелище Вову взволновало, хотя ничего особенного он не увидел. Увидел только то, что тысячу раз видел в раннем детстве, когда бабушка водила его в женскую баню. Его только удивило, что Мара с этой стороны выглядит, как совсем взрослая женщина: то, что она показала, было густо покрыто курчавыми русыми волосами. Это он увидел мельком, потому что тут же смутился и опустил глаза.
– Ну что? Что? Интересно? Зачем опустил глаза? Смотри быстро!
Обеими руками она впилась в собственное тело и на Вовиных глазах стала раздирать его, открывая сочную розовую мякоть. Ему показалось, что она разрывает сама себя.
Вова никогда в жизни не падал в обморок. Но в этот раз был очень близок к нему. К горлу подкатила тошнота, а голова закружилась так, что, рванувшись к выходу, он с трудом попал в дверь. Он убежал в комнату и закрылся на крючок. Мара стучала в дверь и кричала, что пошутила.
После этого Вова не мог ее видеть. При встрече опускал глаза. От какого бы то ни было общения уклонялся. Поняв это, она стала относиться к нему очень враждебно и, сталкиваясь с ним в полутемном коридоре, норовила толкнуть его, ущипнуть и по-всякому обзывалась.
Но он на нее не обижался. Он думал, что с нее взять, если она так ужасно устроена?
ЛЮБОВЬ В ДУБОВОЙ РОЩЕ
Жарким июльским днем 1950 года в Дубовой роще города Запорожье под деревом лежали два друга, одного из которых обозначим инициалами В. В., а другому оставим его полное имя Витька Стерков, по прозвищу Гондон. Прозвище Витькой было получено еще в первый послевоенный год, когда он ходил обутый в самодельные сапоги из очень толстой резины, называемые в народе чуни, ЧТЗ или гондоны. Сапоги те давно сносились, а прозвище осталось.
На днях В.В. и Витька записались в аэроклуб и прыгали с парашютом. Сделали по три прыжка, за что получили от военкомата три дня освобождения от работы. Три дня гуляли законно, четвертый день позволили себе прогулять и поехали в старую часть города, в Дубовую рощу. Там расположились на траве под дубом и, лежа на пузе, курили, говорили о том, о сем. Витька был большой фантазер, он всегда и сейчас рассказывал В.В. разные небылицы про нечистую силу, которую ему приходилось встречать в разных видах, включая и всяких водяных, с ними он сталкивался, когда жил в Геническе, на Азовском море. Там же, по его словам, в большом количестве водились и русалки, которых Витьке и его друзьям удавалось иногда вылавливать и вытаскивать на берег.
– И чего вы с ними делали? – спросил В.В., чтобы поощрить Витьку на дальнейшее фантазерство.
– А ничего. Пиписьки рассматривали и отпускали.
– И все?
– И все, – сказал Витька, как бы оправдываясь. – А чего еще? У них же ног нет, хвост не раздвинешь и вообще, знаешь, чешуя, водоросли, склизка, рыбой воняет, тьфу!
Витька закурил и, переключившись на земную тему, сказал, что в газете «Большевик Запорожья» был репортаж о суде над Кисиным, которому дали двадцать пять лет.
– Кто это Кисин?
– Е-калэмэнэ! – удивился Витька. – Ты что, не знаешь? Это же Киса, бандит. У него знаешь, какая банда?
– Вроде, как у Турка?
– Да ты что? Турок – это кусочник. Кого-нибудь отметелить, снять часы, пиджак, не больше. А эти, я читал, шестьдесят четыре машины угнали и продали на Кавказ, восемь человек замочили. У Кисы при обыске взяли, точно не помню, пятьсот, что ли, тысяч рублей.
– Е-калэмэнэ! – удивился в свою очередь В.В. – Куда ж ему столько денег?
– Жил, зато, как король! – сказал Витька с завистью. – В газете и написано, что гулял всегда в ресторанах, дачу имел, баб в шампанском купал. Вот это жизнь, бля, это я понимаю!
– Если тебе нравится, – сказал В.В. – тоже иди в бандиты.
Он на неё не обижался:
что с неё взять, если она так ужасно устроена?
Идти в бандиты Витька не собирался, но о шикарной жизни мечтал часто, надеясь, что неведомое счастье свалится на него неизвестно откуда или он сам свалится на него. И сейчас он тоже, лежа на брюхе, думал сосредоточенно, вдруг поднял голову:
– Слушай, а что, если мы с тобой так вот лежим – и вдруг перед нами голая баба, бля.
– Что, бля? – раздался над ними голос.
Они подняли головы и увидели, что над ними стоит действительно существо женского пола и примерно их возраста. Правда, не голое, а в зеленом сарафане.
– Хлопцы, – молвило существо, – чи у вас закурыть нэ найдется?
– А кому? – спросил Витька.
– Мени и моей подруге.
– А где подруга?
– А вон тамочкы лежит.
Получив две папиросы и одну из них прикурив, существо ушло к подруге, оставив нашим друзьям некоторую надежду на нечто.
– Пойдем к ним, – предложил В.В.
– Да ну их! – махнул рукой Витька, но махнул неуверенно.
Описываемые персонажи принадлежали к тому сорту дурно воспитанных юношей, которых называют городской шпаной. Взрослые люди, встречая наших героев и им подобных, ночью торопливо переходили на другую сторону улицы, в людных местах хватались за карманы, а своих дочек предупреждали с такими типами не водиться. И мало кому в голову приходило, что типы эти, при всем безобразном их поведении, хулиганских ухватках и вульгарном словаре, были очень застенчивы и совсем еще, к их собственному огорчению, непорочны.
– Ну, может, все же подойдем, – повторил В.В. свое предложение.
– Да ну их! – сказал опять Витька и добавил, подумав. – Все равно ж не дадут.
К столь дерзновенной надежде, чтоб дали, мысль В.В. даже не приближалась.
– Как хочешь, – сказал он и, перевернувшись на спину, стал следить за медленно плывущими сквозь ветки дуба облаками.
– Ну ладно, – сказал Витька неожиданно, – давай все же пойдем.
– Так ведь не дадут же, – теперь сомневался В.В.
– Конечно, не дадут, – согласился Витька, – но хотя бы полапаемся. Чур, эта, которая подходила, моя.
На этом порешили и, поднявшись, приблизились к цели.
– Здравствуйте, девушки! – сказал Витька громко.
Девушки повернули к ним головы, и В.В. увидел ту, вторую, маленькую плотную блондинку в темной юбке и желтой кофточке в крупный черный горошек, с разрезом, из которого так аппетитно проглядывала ложбинка между грудями.
– Можно рядом с вами посидеть? – спросил В.В., прямо как герой песни: “Разрешите присесть рядом с вами, одинокий нарушить покой? И приблизился к Лельке поближе парень в кепке и зуб золотой”. Но герой песни был, наверное, парень не промах и не робел, приближаясь к Лельке. А В.В. робел. И чувствовал, что его вопрос звучит фальшиво и пошло.
– Земля казенная, – сказала девушка и повернулась набок, лицом к нему.
Он лег рядом, лицом к ней и спросил, как ее зовут. Он ожидал, что она, по принятым в знакомой ему среде правилам, спросит, а зачем вам знать или что-нибудь вроде этого.
Но она сказала: “Шура”.
– А менэ Лариска, – назвалась та, к которой приладился Витька. В.В. сказал, как зовут его, и положил Шуре руку на плечо. Он думал, она руку уберет, и приготовился к дальнейшему наступлению. Она скажет, что это не нужно. А он скажет, нужно, и снова положит. Но она ничего не сказала и даже не отстранилась. Он просунул другую руку у нее под шеей и приблизил свои губы к ее губам. И тут вдруг она без всякого перехода обвила его шею руками и стала целовать его горячо и страстно, словно ужасно по нему соскучилась. Она целовала его взасос, втягивая его губы в себя, отпуская, раздвигая их языком. Он даже не знал, что так можно. Он думал, что целоваться, это слегка касаться друг друга губами и громко чмокать.
Потом была неделя безумия. Он сбежал из дома и с работы. Дни они проводили в роще или на пляже, а ночи в шалаше огородного сторожа Мишани, который охотно уступал им свой деревянный, покрытый грязным тряпьем топчан, а сам уходил домой. Она изводила его поцелуями и давала ему мять свою грудь, что он и делал с энтузиазмом и до полного изнеможения. Но больше она не позволяла ему ничего.
Как только он касался ее ниже определенной границы, Шура блудливую руку оттаскивала и говорила: “Не надо!” Если он проявлял больше настойчивости, она говорила: “Обижаться буду!” – и он, веря, что она будет обижаться, отдергивал руку и опять начинал все сначала. Целую неделю он не пил, не ел, отлипал от нее только по нужде, которая, если уж вдаваться в подробности, справлялась с трудом – все у него распухло. Каждый шаг причинял ему боль, и он ходил по земле, как моряк по палубе во время шторма.
В эти дни они говорили очень мало, но все-таки говорили. Из всего, что она ему сообщила, он запомнил только, что ей было девятнадцать лет, родителя – поляки, а фамилия у нее Шипковская. Почему она живет не с родителями и не в квартире, а в роще, она ему не говорила, а он и не спрашивал.
Тем более, что не одна она, а много разных других людей, в основном юного возраста, жили в Дубовой роще, спали в шалашах, под деревьями, а то и на ветках, как птицы. Время от времени по ночам раздавались крики, иной раз и выстрелы. Случались там изнасилования, убийства и милицейские облавы, которые до их шалаша почему-то не доходили.
Иногда в поле зрения появлялась Лариска и жаловалась на жизнь. Сбежавши из колхоза, она тоже жила здесь, бездомная, и в криминальной атмосфере Дубовой рощи ухитрялась не попасть в милицию, не быть изнасилованной и оставалась, как она утверждала, девушкой. Что и оттолкнуло от нее и Витьку, и многих до и после него.
Шура за девушку себя не выдавала, но последний рубеж продолжала оборонять. Вопреки или как раз благодаря этому, В.В. к ней привязывался все больше и больше. Он ей сказал, что хотел бы жить с нею всю жизнь и готов жениться, как только ему в сентябре исполнится восемнадцать лет. Но сиюминутное свое желание ни как не мог выразить более решительными действиями или даже словами. Впрочем, словами тем более. Шура соглашалась ждать до сентября, но до этого предлагала куда-то бежать.
– Давай, – говорила, – сядем на пароход и поплывем в Херсон, а там скроемся.
– Давай, – соглашался он.
От кого и зачем скрываться, он ни разу ее не спросил. Он знал, что многие люди от кого-то скрываются. Если он поедет куда-то, ему тоже надо будет скрываться. Потому что никакого легального способа перемены места работы и жительства нет. Два года проучившись в ремесленном училище, он должен четыре года отработать на заводе. По закону раньше этого срока уволиться невозможно, а сам уйдешь, получишь четыре месяца тюрьмы. Причем, после отбытия срока опять вернут на завод. Впрочем, тюрьму он уже и так заработал. За прогул – тюрьма, и за двадцать минут опоздания тоже, а он уже почти неделю не перевешивал табельный номер.
Денег на пароход или на что бы то ни было, ни у него, ни у нее не имелось, и вообще у них, у обоих не было ничего, кроме того, что на них. На пляже юбку и блузку Шура каждый раз стирала, а потом сушила, разложив на песке.
Он был уверен, что целоваться, это слегка касаться
друг друга губами и громко чмокать
В мысленных поисках денег на побег он стал вынашивать преступную мысль: украсть что-нибудь у родителей. Но что именно? Родители его, увы, люди бедные, никаких богатств не накопили. Но была в доме одна ценность, которая, может быть, чего-то стоила, – дедушкин серебряный портсигар, с головой лошади на крышке. Мама всегда обещала: “Вот вырастешь, я тебе этот портсигар подарю”. Он уже вырос, портсигар должен принадлежать ему. Он его возьмет, отнесет в ювелирный магазин и выручит деньги, которых, может быть, хватит на пароход и на первое время.
Туманные эти планы возлюбленные перемежали теми действиями, с которых и началось знакомство. День и ночь он сжимал ее в своих объятиях, а она искусывала его губы до крови, но всегда неукоснительно (почему?) останавливала его перед последним препятствием. Изводила его и себя. Время от времени, обессилев в борьбе, они засыпали, словно теряли сознание. Иногда он просыпался, а она спала. Тогда он, пользуясь моментом, пытался действовать хитростью. Тихо-тихо-тихо, стараясь не разбудить ее прежде времени, проталкивал пальцы под резинку и потом двигал руку дальше-дальше (так ползут солдаты в разведку). Продвигаясь вперед, пальцы касались первых нежных курчавинок, скользили еще, достигали завитушек погуще и пожестче, и вот оно, заветное устье…
Но тут его как раз и застигали с поличным. Шура просыпалась, испуганно бормотала: “Что? Что? Что?” Хватала его за руку. “Ничего!” – торопливо отвечал он и отдергивал руку, словно разоблаченный карманник.
Однажды, почти совсем озверев, он накинулся на нее с рычанием и, стащив наполовину трусы, стал тыкаться в нее торопливо, неумело и, по незнанию географии, гораздо выше, чем надо. Она, проснувшись, защищалась активно, отвела в сторону свидетельство его вожделения, закрылась руками намертво, зашептала возбужденно и торопливо: “Прошу тебя! Не надо! Не надо! Обижаться буду!”
Он, не решившись ее обидеть, снова остановился, и его чуть не хватила кондрашка. Сердце заколотилось, заухало, дыхание прервалось. Он упал с топчана и стал царапать ногтями глиняный пол. Жизнь зависла на тоненьком волоске…
Потом, уже очень взрослому, ему объяснили, как он мог облегчить свои страдания, но сам он, как ни смешно, до этого не додумался.
Кажется, где-то в дневниках у Толстого есть запись, что в юношеском возрасте все мужчины занимаются онанизмом, но не все в этом признаются. Не вдаваясь в подробности, заметим, что Толстой был неправ.
После случившегося припадка, В.В. решил взять себе выходной. Облезший, осунувшийся и немытый, на рассвете вернулся он к родителям, которые, оббегав все милиции, больницы и морги, уже не чаяли увидеть его живым. Был большой скандал, бурные объяснения, он что-то врал и, как всегда, весьма неумело. А сказать родителям правду или что-нибудь похожее на правду он не мог. Они его в этом смысле не знали, не понимали, не хотели видеть, что он находится в том периоде, когда натура буйствует и толкает на сумасбродство. Они ни разу не попытались установить с ним доверительный контакт, поинтересоваться, что его мучает, что-нибудь объяснить, посоветовать, предостеречь. Все его знания о сексе были из многоточий в книгах, из случайно подслушанных разговоров да слов его дружков, того же Витьки и двух Толиков, представления которых тоже были дикарские.
Тема отношений между мужчинами и женщинами была в семье В.В. не подлежащей никакому обсуждению. Поэтому каждое его возвращение домой позже одиннадцати часов уже вызывало переполох: папа бегал по милициям и больницам, а мама сходила с ума дома. А если иногда он сам заводил речь на тему возможного свидания с девушкой (в основном, гипотетической), мама недоумевала, а в чем, собственно, дело? Если девушка хорошая, то зачем вам где-то скрываться, пригласи ее домой и сидите здесь, сколько хотите. Она говорила так, словно ей в голову не приходило, что ее сыну и той самой девушке (гипотетической) есть, зачем скрываться, и есть, чем заняться вне присмотра родителей.
В то же утро он отправился на завод, где узнал, что на него уже объявлен розыск и четыре месяца тюрьмы за прогулы ему обеспечены. Тем не менее к работе его допустили, и он как-то там протомился полный рабочий день. Но утром следующего дня он снова ушел из дому не на работу, имея в кармане дедушкин портсигар. Сторож Мишаня был пьян и растерян.
– Шурка-то твоя уплыла, – сказал он, улыбаясь глупо и виновато.
– Куда уплыла? – не понял В.В. – С кем? На чем? На пароходе?
– Вот дурень! Каком пароходе? Забрали ее. Ночью пришли лягавые с фонарями, с собаками и увели. В.В. пошел в милицию. За перегородкой сидели дежурный капитан и еще один с сержантскими.
– Как фамилия?
– Шипковская.
– А кто она вам?
– Знакомая.
– Трипака, что ли, подцепил? – спросил сержант, и оба засмеялись.
Дежурный все же посмотрел в книгу.
– Среди задержанных такой нет.
Из городской милиции его и вовсе погнали, сказали, что посторонним справок никаких не дают.
Вечером, вернувшись домой, он тихо положил портсигар на место. Заводское начальство его пожалело, в тюрьму не посадило, и он стал регулярно ходить на работу. Но вечерами и по выходным дням ездил в Дубовую рощу, слонялся по ней, надеясь на чудо.
Однажды, как раз собираясь в рощу, он вышел из дому и уже заворачивал за угол, как его окликнули. Он обернулся и увидел девушку в осеннем синем пальто. Вглядевшись, узнал Лариску.
– Здорово! – сказала она. – Я к тебе от Шурки.
– Где она? – закричал В.В.
– Не ори! – оборвала Лариска. – В тюряге сидит. Под следствием.
– За что?
– А ты не знаешь?
– Нет.
– А ты про Кису когда слыхал?
– Это про бандита Кису? Которому двадцать пять лет дали?
– Вот, про него.
– А при чем тут Шура?
– Надо же! – засмеялась Лариска. – Ничего не знает. Да она ж его ближайшая подруга была. Правая рука и левая нога. Они всеми делами вместе ворочали.
– Что? – переспросил В.В. – И грабили вместе, и убивали?
– Откуда мне знать, – закричала Лариска визгливо, – кто из них чего делал! Я знаю только, шо она его любовница была. А когда его замели, она скрывалася. Она вообще хотела смыться в Херсон, а тут ты, и она в тебя влюбилася. Во. Она и сама удивлялася. Никогда, говорит, маленьких не любила, а тут прямо, говорит, отлипнуть от него не могу. Она все мне говорила. И шо тебе не давала, тоже говорила. А не давала потому, шо боялася, шо ты ее разлюбишь, это раз, а шо Киса если узнает, то он тебя и из лагеря достанет и зарежет. Боялася, а теперь жалеет.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю, знаю. Она передала тебе так. Шоб ты ее больше никогда не шукал. И не найдешь, потому что фамилия у нее не та, шо она тебе сказала, а другая. Хотя тоже польская. Она хочет, шоб ты ее не шукал, но когда-нибудь вспомнил. Шо была у тебя такая Шурка, блядь и воровка. Но она тебя люби…и…и…
Не договорив, Лариска махнула рукой и разрыдалась. И пошла в сторону. В.В. еще о чем-то хотел спросить. Но она ему отвечала очень и очень грубо, употребляя слова, которые автор этих строк в данном контексте приводить не берется.
О Шуре В.В. вспоминал много лет, много лет жалел, что был таким растяпой, и не она стала его первой женщиной.
УЖИН ПРИ СВЕЧАХ
Недавно В.В. оказался в польском городе Бжег на Одере, где ровно сорок лет тому назад стоял 159-й гвардейский истребительный, краснознаменный и ордена Суворова третьей степени полк. Сначала В.В. ничего не мог вспомнить, но вдруг подуло каким-то ветром, возник шоколадный запах, он вспомнил, что да, тут была шоколадная фабрика, а рядом с ней солдатская столовая, а тут была (вот она тут и есть!) булыжная мостовая от столовой к казарме. Когда солдаты шли по этой дороге в столовую или из, вдоль строя бежали мальчишки и просили “зигарек”. В.В. думал, что зигарек – это что-то курительное, а оказалось – часы. Привычка выпрашивать часы перешла к детям послевоенных лет от предыдущего поколения, произраставшего во времена немецкой оккупации. У германских солдат часы – штамповка ничего, говорят, не стоили, но у их советских преемников у самих, наручные часы были редкость.
Дорога шла мимо озера, где, убегая в самоволку, В.В. на берегу, отдаленном от пляжа, в негустых зарослях ивняка встречался с девушкой по имени Элька Гемба. Они виделись регулярно, но всегда только днем, потому что вечером долгое отсутствие В.В. в казарме было бы замечено. Днем же он был почти всегда свободен, поскольку служил с некоторых пор планшетистом при командире полка, дежурил только во время нечастых ночных полетов, а в остальное время его почему-то ничем не занимали и не тревожили, может быть, потому как раз, что, отсутствуя то на ночных дежурствах, то в самоволках, он выпал из сферы внимания своих непосредственных мелких начальников.
Их знакомство произошло через папиросы “Неман”, которые В.В. как авиамеханик получал по пачке в день. Она подошла, попросила закурить, потом подошла еще. Так оно и продолжилось. В.В. приходил со своим “Неманом”, угощал ее, угощался сам, но их отношения, несмотря на настойчивые домогательства В.В. за пределы платонических, увы, так никогда и не перешли. Хотя она иногда обещала большее. Ей было двадцать пять, а ему двадцать. Ему казалось, она не знала, как его зовут и даже не интересовалась. Она называла его просто Мальчик, и ему это нравилось. Она учила его польскому языку, всяким словам, приличным и неприличным, и учила целоваться, а когда он слишком распускал руки, она убирала их оттуда, куда они забирались, прижимала к груди, целовала их и тихо шептала: “Я ти (тебе) дам, Мальчик. Скоро. Альба не тераз (но не сейчас). Альба дам”.
Они встречались в кустах и только иной раз купались вместе, но расходились поврозь, потому что общение с ней грозило ему наказанием “за связь с местным населением”, а это что-то близкое к моральному разложению и шпионажу. А у нее тоже могли быть немалые неприятности, потому что женщина, которая путается с русским солдатом, это курва и достойна презрения.
Вспомнив Эльку, он вспомнил и весь этот город – до каждого дома и дерева и до прочих мелких подробностей и, оглядевшись вокруг, вдруг увидел: да здесь совсем ничего не изменилось! Все стоит на тех же местах и в том же виде, как сорок лет назад, словно время над этим местом не властно. И он вдруг почувствовал, что расхожее выражение “время летит” неправильно. Оно движется очень медленно, может быть, даже вообще стоит, а мы сквозь него пролетаем.
Впрочем, как сказать… Теория относительности утверждает, что если вы сидите в поезде и вам кажется, что поезд стоит, а дома и деревья едут мимо, то считайте, что так оно и есть.
В Бжег на Одере прикатил он из Чехословакии, из города Миловице, в котором еще недавно проживало сто тысяч человек советских военных и обслуживающих. После оставления его советскими войсками, Миловице превратился в город – призрак. Пустые улицы, танковые ангары, армейский клуб, вывеска на строении “ольствен…агазин” и сотни совершенно одинаковых “хрущобных” домов, пустых и безжизненных, как после атомной войны, с окнами нижних этажей, заклеенными (зачем?) газетами “Красная звезда”, “Правда”, “Известия”.
Осматривая этот странный город – призрак, он вспомнил свою собственную службу и места, где она протекала, сел на свой БМВ и через четыре часа въехал в город, из которого его когда-то вывезли на тягаче ГАЗ-63.
Добравшись до центра, он вылез из машины, стоял, вертел головой, но ничего не мог вспомнить.
Пока не подуло от шоколадной фабрики.
И тогда город стал проступать в памяти, как фотография в проявителе, и проявленное один к одному совместилось с реальностью. И он тут же нашел и узнал дома, которые были казармами, а теперь в них жили польские цивильные обыватели (obyvatel – по польски гражданин), и дорогу, и саму столовую, и озеро, вдоль которого проходила дорога.
В пивной возле озера он встретил одного русского человека, который здесь жил давно, по-польски не понимал ни слова, но знал всех и за кружку пива готов был на многое. За кружкой пива В.В. спросил его, знает ли он Эльку Гемба, он сказал “знаю” и они поехали. По дороге В.В. ругал сам себя, думая, зачем ему встречаться с какой-то старухой, что может иметь она общего с девушкой, от которой он уходил с искусанными губами и распухшими частностями приложения к организму, но вдруг его охватило и испугало странное предположение, что, если в этом городе время застыло, то может быть, и Элька осталась такой, как была. И он встретит молодую женщину, которая скажет: “Мальчик, что же с тобой случилось?” Но его провожатый совпал в своих мыслях с В.В. и предупредил: “Но она старушка. Ей лет шестьдесят пять”. В.В. согласился, что так, примерно, быть и должно, и, как ни странно, обрадовался. Они подъехали к какому-то дому, В.В. постучался в дверь на первом этаже, вышла хозяйка, вытирая мокрые руки о фартук.
– Ну вот, – сказал провожатый, раскинув руки, одну – в сторону хозяйки, другую – в сторону В.В., как бы собираясь их обоих вместе соединить. – Ну вот.
В.В. смотрел на хозяйку, она была в возрасте, но взгляд еще живой и женский. Он спросил, зовут ли ее Элька. Она закивала головой: “Так, так, естем Элька”. Он спросил фамилию. “Гембка”. Не Гемба, а Гембка, но, может быть, он забыл, перепутал, может быть, Гембка. Он, вглядывась в нее, спросил, не было ли у нее когда-нибудь русского друга, она, вглядываясь в него, сказала, нет, нет, русского не было. Хотя ей сейчас было бы приятно, чтобы какойнибудь пожилой иностранец разыскивал ее из лирических побуждений. “Но, может быть, ты не помнишь?” – спросил ее провожатый. “Нет, – сказала она, сожалея о несостоявшемся прошлом. – Если бы у меня такое было, я бы запомнила”.
В.В. на этом не остановился и спросил, не жила ли пани когда-нибудь по улице Школьна, чтернаштя (четырнадцать). Пани покачала головой: нет, нет, не жила, и вдруг спохватилась: “Я знаю, о ком вы говорите! Она жила на Школьной, а потом переехала на Костюшко, у нее дочери лет уже, может быть, сорок. Да, правильно, ее звали Элька Гемба, “альбо она юж не жие” (но она уже не жива). Правду сказать, В.В. не очень-то удивился, он даже и не очень-то надеялся увидеть ее живой. Он сказал: извините, пани. Она сказала: ну что вы, что вы. А провожатый вышел с ним на улицу и предложил поехать к Элькиной дочери. В.В. не захотел, а он спросил: “Почему ж ты не хочешь ее увидеть? Может быть, она твоя дочь?” “Нет, – сказал В.В., – она не может быть моей дочерью”. “Почему?” “Потому что не может быть”.
Хотя так могло быть, но так не случилось. В день последнего их свидания В.В. расхрабрился и проявил большую настойчивость, и она уже почти совсем поддалась, но в последнее как будто мгновение опомнилась, оттолкнула его от себя и твердо сказала: нет, так не бенде (не будет). Он обиделся и отодвинулся. Она придвинулась, поцеловала и сказала на ухо, словно кто-то мог их подслушать: “Я ти кохам (я тебя люблю), мальчик, я ти кохам”. Он продолжал сопеть обиженно и услышал старый текст с новой вариацией: “Я ти дам. Альба не тераз. Альба не тутай (не тут)”. Когда? Где? – спросил он сердито, подозревая, что ответа не будет, а будет сдавленный смешок, нежный поцелуй и повторение, что альбо не тераз.
– Ютро (завтра), – сказала она просто. – Ютро вечорем. Пшидешь до мне, Школьна чтернаштя…
И стала объяснять ему, что она хочет, чтобы все было красиво. Чтобы было вино, свечи…
– Я на тебе женюсь! – вдруг пообещал он, хотя его никто за язык не тянул. Но он не врал, чувствовал, что он правда хочет прийти к ней и прийти навсегда.
– Глупый, глупый, – сказала она, произнося это слово на польский манер, когда «л» почти не слышится и слово звучит, как “гупый”. – Гупый, то ти не вольно (нельзя).
– Можно, – сказал он с вызовом не слышащим его высшим силам.
– Можно. Я ничей не раб и сам знаю, на ком можно жениться, на ком нельзя.
– Не вольно, – повторила она. – Ти ниц (ничего) не вольно, альбо я ти дам. Ютро, вечорем, Школьна чтернаштя. Запаментал (запомнил)? Школьна чтернаштя…
“Никогда маленьких не любила,
а тут – прямо отлипнуть от него не могу…”
… В тот день под влиянием каких-то неосознанных ими ощущений они расслабились и пошли по городу вместе. Никогда этого не делали раньше. А тут… Пошли вместе, и она взяла его под руку. И он шел, замерев, желая на всю жизнь приютить ее руку здесь.
Они не заметили группу военных на другой стороне улицы. Это были офицеры чужой, танковой, части и с ними один солдат.
Между прочим, в Советской армии между родами войск всегда была вражда, такая же бессмысленная и такого же точно происхождения, какая бывает между живущими по соседству народами. В.В. приходилось служить в местах, где встретить в темном закоулке человека с погонами другого цвета бывало страшней, чем солдата враждебной армии.
Солдат в черных погонах приблизился ленивой рысцой и, никак не обращаясь, сказал:
– Старший лейтенант Куроедов приказал тебе подойти.
Будучи человеком законопослушным (не очень, не очень), В.В. в другое время обязательно бы (может быть) подошел. Но тут с ним была девушка, в которую он был по уши (сегодня он это понял), потерявши голову (ой, что-то тут, кажется, грамматически не согласуется), в общем совсем не в себе.
Элька хотела немедленно вытянуть руку, но он ее придержал и, слегка только повернув голову к гонцу, сказал:
– Если старшему лейтенанту нужно, скажи ему, пусть подойдет.
Гонец порысил назад, к офицерам, доложил, и В.В. увидел, что от группы офицеров отделился и направляется к ним старший лейтенант, наверное, Куроедов.
– Мальчик, втекай (беги)! – прошептала Элька и вырвала руку из-под его подмышки.
– Зачем же? – спросил он беспечно. Офицер прибавил шагу.
– Мальчик! – сказала Элька.
Он взял ее руку, чтобы пристроить на старое место. Офицер побежал.
– Мальчик, – закричала она шепотом. – Мальчик, я ти прошу, втекай и запаментай: Школьна чтернаштя…
Наконец-то он понял, что она права, и потек. Будучи лет на шесть-семь-восемь моложе старшего лейтенанта Куроедова, ему от последнего оторваться было не трудно. Но трудней было уйти от реальности.
Утром следующего дня 159-й гвардейский истребительный, Краснознаменный и ордена Суворова третьей степени полк был выстроен на плацу и, сопровождаемый замполитом полка (под присмотром начальника особого отдела), старший лейтенант Куроедов ткнул пальцем в одну из выпяченных грудей и сказал уверенно:
– Он!
После чего В.В. был доставлен на гарнизонную гауптвахту, а оттуда прямо на поезд и, в конце концов, сам себя обнаружил на пересыльном пункте (армейском, а не тюремном) в городе Кинель Куйбышевской области. Власти проявили свойственный им гуманизм и не посадили преступника, а всего лишь выслали на родину.
Ужин при свечах с обещанными последствиями на Школьной чтернаштя не состоялся. И в появлении когда-то на свет Элькиной дочери, проживающей и поныне в городе Бжеге на Одере, В.В. ни малейшим образом не повинен.
![]()